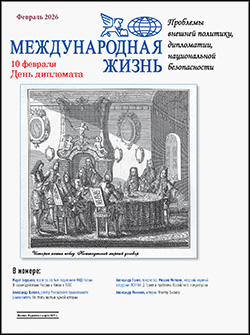Выражаю признательность и большую благодарность за консультирование по некоторым научным аспектам моему давнему коллеге по климатическим переговорам А.И.Нахутину, заведующему отделом мониторинга парниковых газов в промышленности и энергетике ФГБУ «ИГКЭ», кандидату физико-математических наук.
К 10-летию Парижского соглашения по климату, 20-летию Киотского протокола и 30-летию Рамочной конвенции ООН об изменении климата
За прошедшие годы проблема глобального изменения климата вышла далеко за пределы академических обсуждений в рамках научных сообществ и стала одной из самых резонансных политических тем. Одни видят в изменениях, происходящих в климатической системе Земли, предвестника экологического апокалипсиса, другие норовят списать на глобальное потепление чуть ли не все социально-экономические проблемы современности, одновременно лукаво, исподтишка, пытаясь решить задачи весьма далекие от экологических, а иные и вовсе кликушествуют о том, что изменение климата - это угроза международному миру и безопасности.
Оставим ученым вопрос о причинах, сущности и возможных последствиях климатических изменений. Мне же, непосредственному участнику большинства важнейших переговорных баталий по климатической проблематике, начиная с 1-й сессии вспомогательных органов Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИИК) в 1995 году и до принятия Парижского соглашения (ПС) в 2015 году, а также его 1-го Совещания Сторон в 2016 году, представляется важным сегодня, на рубежном этапе, дать обобщенный взгляд на историю и развитие климатического процесса под эгидой ООН и попытаться оценить его итоги на сегодняшний день.
А этап, без преувеличения, рубежный. На ооновском небосклоне выстроился своего рода «парад климатических планет»: в этом году исполняется десять лет с момента принятия Парижского соглашения по климату, 20 лет со времени вступления в силу Киотского протокола, и совсем недавно, в 2024 году, Рамочная конвенция ООН об изменении климата перешагнула свой 30-летний рубеж1.
Самое время задаться вопросом: а проглядываются ли за этой «магией дат» реальные достижения?
Для того чтобы ответить на него, полезно вспомнить, с чего же, собственно, все начиналось, и посмотреть в какой точке сегодня находится международный климатический процесс, в какие краски тезис об угрозе изменения климата Земли раскрашивает международную политическую палитру.
Из истории
Впервые вопрос об угрозе глобального изменения климата был поставлен в повестку дня ООН в 1988 году по инициативе Мальты. Впоследствии, кстати, именно представитель Мальты, Майкл Заммит Кутаяр, стал первым исполнительным секретарем Рамочной конвенции ООН об изменении климата, одним из наиболее профессиональных, вдумчивых и объективных, на мой взгляд, представителей плеяды руководителей ее Секретариата. В принятой в том году Генассамблей ООН резолюции 43/53 изменение климата было признано общей проблемой всего человечества, а перед Всемирной метеорологической организацией (ВМО) и Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) поставлена задача подготовки соответствующих рекомендаций относительно элементов будущей международной конвенции по климату. Далее, в 1990 году, последовало решение «организовать процесс межправительственных переговоров в целях подготовки Межправительственным комитетом по ведению переговоров эффективной рамочной конвенции об изменении климата»2.
Переговоры прошли сравнительно быстро и вполне успешно - уже 9 мая 1992 года Рамочная конвенция ООН об изменении климата была принята, а 4 июня открыта для подписания в ходе Конференции ООН по окружающей среде и развитию (1992 г., Рио-де-Жанейро, Бразилия).
Сегодня Сторонами конвенции являются 197 государств, включая Российскую Федерацию и Европейский союз как «региональную организацию экономической интеграции», согласно определениям РКИК.
Цель РКИК сформулирована в самом общем виде - стабилизация концентрации парниковых газов в атмосфере на уровне, который не допускал бы опасного антропогенного воздействия на климатическую систему. В соответствии с принципом «общей, но дифференцированной ответственности» развитые страны должны «демонстрировать лидерство» в сдерживании антропогенных выбросов и предоставлять развивающимся странам «новые и дополнительные» финансовые ресурсы для «покрытия всех согласованных издержек», связанных с выполнением ими своих обязательств по РКИК, а также поощрять передачу экологически безопасных технологий3.
Сразу надо отметить юридический нюанс, важный для понимания всей сложности и противоречивости международно-правового климатического режима: время идет, а закрепленное в РКИК разделение на доноров (развитые страны) и получателей помощи (развивающиеся страны) так и остается неизменным. За прошедшее 30-летие многие государства из группы развивающихся стран по уровню своего экономического потенциала догнали, а то и перегнали те государства, которые РКИК относит к развитым, и уже сами могли бы оказывать финансово-технологическое содействие нуждающимся странам.
Однако базовый климатический международно-правовой инструмент по-прежнему сохраняет в себе рудиментарное наследие 30-летней давности, ограничивающее финансовую базу мер по борьбе с изменением климата и являющееся одним из главных факторов, подпитывающих противоречия между развитыми и развивающимися странами. Россия неоднократно ставила вопрос о необходимости периодического пересмотра классификации, закрепленной в РКИК, но поддержки эта инициатива не получила. Причин тому много, все они находятся на стыке политических, социально-экономических и процедурно-юридических измерений.
Принятый в 1997 году на 3-й Конференции Сторон Конвенции (Киото, Япония) Киотский протокол (КП) операционализировал РКИК, установив конкретные объемы, сроки и способы сокращения эмиссий парниковых газов. Он стал первым международно-правовым инструментом, который для решения экологических проблем предусматривал задействование рыночных механизмов, основанных на торговле квотами на выбросы, а также зачете в счет выполнения обязательств тех эмиссионных сокращений, которые заинтересованная сторона могла получить в результате реализации в других странах целевых проектов, ведущих к снижению объемов выбросов парниковых газов.
Говоря о Киотском протоколе, уместно отметить фактор, подчеркивающий роль нашей страны в международном климатическом процессе: свою жизнь - вступление в силу 16 февраля 2005 года - КП обрел только благодаря решению Российской Федерации о ратификации, принятому в феврале 2004 года по итогам сложного и довольно длительного внутринационального процесса по определению нашей позиции. Российская ратификация позволила обеспечить выполнение процедурно-юридических условий вступления Протокола в силу - достижение установленного порогового значения по уровню охвата глобальных эмиссий. Сейчас сторонами КП являются 191 государство и Евросоюз. От ратификации КП отказались США, а в 2012 году из него вышла Канада.
В приложениях к Протоколу зафиксированы количественные параметры сокращения эмиссий в период 2008-2012 годов конкретно каждой стороной из группы развитых стран и стран с переходной экономикой - в диапазоне до минус 8% по отношению к 1990 году, который в рамках климатического режима был выбран в качестве базового. При этом для развивающихся государств количественных обязательств не предусматривалось. Российской делегации удалось добиться учета социально-экономических и природно-географических особенностей нашей страны и, соответственно, вполне приемлемых параметров обязательств Российской Федерации - право к 2012 году иметь такой же объем выбросов, как и в 1990 году (т. е. нулевой уровень сокращений). Большая заслуга в этом принадлежит А.И.Бедрицкому, в течение многих лет возглавлявшему российские делегации на переговорных сессиях и конференциях сначала в качестве руководителя Росгидромета, а далее, до выхода в отставку в 2018 году, - советника и специального представителя Президента Российской Федерации по вопросам климата, человеку исключительного трудолюбия, высочайшей профессиональной квалификации и государственного склада ума.
В рамках согласованного срока обязательств КП охватывал лишь 30% совокупных глобальных выбросов парниковых газов. Соответственно, говорить о его высокой эффективности в плане решения климатической проблемы не приходилось. Главная роль, отводившаяся ему, - демонстрация развитыми странами своей приверженности выполнению предначертанных им РКИК функций лидерства в ограничении парниковых эмиссий и опробование рыночных механизмов. Это был первый шаг на пути реальных ограничений выбросов СО2, причем в рамках специально разработанного юридического режима контроля за соблюдением.
В 2012 году на 18-й Конференции Сторон РКИК (Доха, Катар) была принята Дохийская поправка к Киотскому протоколу, которая задумывалась как продление срока его действия (пока идет работа над новым всеобъемлющим соглашением), определяя показатели сокращения эмиссии для развитых стран на второй период: 2013-2020 годы (отсюда и условное название «Киото-2»).
Российская Федерация еще задолго до Дохийской конференции подчеркивала, что не видит смысла в продлении КП в том виде, как он существовал (наподобие Китайской стены между развитыми и развивающимися странами), и сделала официальное заявление о том, что будет оставаться стороной Протокола, но не намерена брать количественные обязательства на второй период, так как это не решает климатическую проблему: Дохийская поправка была способна регулировать лишь 13-15% глобальных выбросов, по-прежнему не охватывая всех крупнейших эмитентов.
С самого начала процесс согласования положений второго периода обязательств был сопряжен с крайней нервозностью и поляризацией позиций основных переговорных групп (развитые, развивающиеся и страны с переходной экономикой) и в итоге вылился в срежиссированные Евросоюзом грубейшие процедурные нарушения при принятии проекта поправки - наглядное проявление экологического экстремизма и беспринципности ЕС «в одном флаконе».
Буквально накануне заключительной пленарной сессии вопреки компромиссным договоренностям, достигнутым в ходе рабочих консультаций, в общий итоговый документ с подачи европейцев были включены дополнительные пункты (весьма чувствительные для стран с переходной экономикой). Сразу вслед за этим всю Дохийскую поправку поспешно поставили на утверждение и молниеносно объявили принятой консенсусом (требование российской делегацией слова по порядку ведения было попросту проигнорировано - мол, «не заметили»). А упомянутые дополнительные пункты вели к нарушению целостности юридического режима соблюдения Киотского протокола и существенному ущемлению интересов стран с переходной экономикой (вне зависимости от того, намерена ли была та или иная страна из этой группы брать обязательства или нет).
Следует ли говорить, что столь несбалансированный документ (да еще с такой, как принято говорить, подмоченной репутацией) Россия не ратифицировала. Япония также отказалась взять на себя количественные обязательства в рамках «Киото-2». За бортом КП оставались США и Канада. В дальнейшем решение об отказе от ратификации этого документа приняли Белоруссия и Украина. В результате Дохийская поправка смогла охватить лишь 7,6% глобальных эмиссий. Все это печально сказалось на судьбе бесславно канувшего в Лету «Киото-2», историю которого западноевропейские апологеты «климатического кризиса» стараются сейчас не вспоминать: поправка буксовала восемь лет и вступила в силу в последний день предусмотренного ею срока обязательств4. Что называется, много шума, а в результате - пшик. Практическая ценность - нулевая.
Кульминацией международного климатического процесса под эгидой ООН стало принятие Парижского соглашения на 21-й Конференция Сторон РКИК (30 ноября - 13 декабря 2015 г., Париж, Франция), в которой участвовал Президент Российской Федерации В.В.Путин.
Принятие этого документа под громкие овации в импровизированном конференц-центре, сооруженном на территории выставочного комплекса Ле-Бурже под Парижем, стало результатом четырех лет напряженной кропотливой работы всего мирового сообщества.
Переговоры по его разработке и согласованию были запущены по решению 17-й Конференции Сторон РКИК (2011 г., Дурбан, ЮАР), в соответствии с которым сторонам РКИК предписывалось «приступить к процессу разработки протокола, иного правового акта или согласованного итогового документа, имеющего юридическую силу, согласно Конвенции, применимого ко всем Сторонам»5.
Найденный в Парижском соглашении баланс интересов развитых и развивающихся стран, в том числе всех крупных эмитентов (Китай, США, Евросоюз, Россия, Индия, Япония, Бразилия, Республика Корея, Мексика, Индонезия, ЮАР), объективно отражает степень возможного на современном этапе международного консенсуса по проблематике противодействия изменению климата и адаптации к его последствиям6.
Стратегической целью соглашения определено «удержание прироста глобальной средней температуры намного ниже 2оС сверх доиндустриальных показателей и приложение усилий в целях ограничения роста температуры до 1,5оС». Иных четко выраженных цифровых обязательств оно не предусматривает.
Прорывное достижение ПС - объединение в едином международно-правовом формате усилий развитых и развивающихся стран, за что российская делегация боролась на протяжении всего переговорного процесса. Это стало возможным благодаря реализованной в Соглашении идее гибкого сочетания коллективной цели по сдерживанию глобального потепления с так называемыми определяемыми на национальном уровне вкладами стран в международные усилия по ограничению эмиссий. Данная формула выводит за рамки международно-правовых обязательств те национальные климатические меры, содержание которых каждая сторона определяет самостоятельно и затем вносит в общую копилку7. Таким образом, в отличие от Киотского протокола Парижское соглашение смогло обеспечить практически полное покрытие глобальных эмиссий.
Кроме того, по настоянию Российской Федерации в него введены статьи, закрепляющие адекватный учет лесного фактора (что исключительно важно для нашей страны, имеющей самый большой в мире лесной покров) и значение адаптации к изменениям климата для всех стран, а не только развивающихся.
К достижениям российской дипломатии следует также отнести и принципиально важное решение, которого удалось добиться по итогам 1-го Совещания Сторон ПС (2016 г., Марракеш, Марокко), а именно: на первых этапах проведение разработки имплементационных регламентов ПС под эгидой Конференции Сторон РКИК, что обеспечило полноценное (с правом голоса) участие в переговорах всех стран - как ратифицировавших его, так на тот момент еще и не сделавших это. В развернувшейся в Марракеше острой полемике по этому вопросу вновь ярко проявился экологический экстремизм Евросоюза, который старался во что бы то ни стало подтолкнуть всех к скорейшей «слепой» ратификации ПС и, всеми силами стремясь обеспечить себе преимущественные позиции, ратовал за то, чтобы формирование свода правил велось сразу под патронажем ПС (таким образом, право голоса имели бы только страны, его ратифицировавшие).
А объективные обстоятельства стали совершенно очевидными: изначально было понятно, что Российской Федерации (как и многим другим государствам) потребуется определенное время для формирования внутринационального консенсуса в отношении ратификации ПС на основе четкого понимания международных «правил игры» (которые только предстояло согласовать) и обеспечения материальных условий для присоединения к соглашению8. Никакой политической дальновидности у брюссельских еврофункционеров, позиция которых могла привести совершенно к обратному результату - оттолкнуть не только Россию, но и другие государства от участия в соглашении, выработанном с таким трудом, и близко не проглядывалось…
Такова общеисторическая канва климатической истории. Ознакомившись с ее основными вехами, можно перейти к вопросу, поставленному вначале.
Каков же уровень достигнутого за прошедший период?
Посмотрим лишь на ключевые макропоказатели, не вдаваясь в детали.
На «стартовые позиции» в 2015 году Парижское соглашение вышло с суммарным общемировым объемом эмиссий в размере 48,8 млрд т эквивалента СО29. При этом уже имелось согласованное еще в 2009 году обязательство развитых стран «совместно мобилизовать к 2020 году в контексте предотвращения изменения климата 100 млрд долларов в год для удовлетворения потребностей развивающихся стран»10. В Париже эта финансовая цель была подтверждена, но, как стало ясно уже тогда, доноры ее «не вытягивали», и поэтому срок ее выполнения был продлен до 2025 года.
Сегодня свой десятилетний юбилей соглашение встречает с показателем суммарных выбросов в объеме 52,9 млрд т11. То есть после 2015 года прирост выбросов продолжился, хотя, надо признать, по сравнению с аналогичным отрезком времени до принятия ПС (2005-2015 гг.) его темпы снизились почти в два раза. Из шести основных эмитентов (Китай, США, Индия, Евросоюз, Россия, Бразилия) только две стороны показали за период действия ПС сокращение выбросов: США - с 6,3 до 5,9 млрд т (- 6,3%) и Евросоюз - с 3,8 до 3,2 млрд т (- 15,8%). При этом 2024 год стал самым теплым за всю 175-летнюю историю метеонаблюдений - среднегодовая глобальная приземная температура была на 1,55оС выше среднего значения за 1850-1900 годы12. А современные тенденции с выбросами парниковых газов ведут, по некоторым оценкам, к повышению средней глобальной температуры на 3оС13 (вспомним цель ПС: удержание прироста глобальной средней температуры намного ниже 2оС).
Доля возобновляемых источников энергии в конечном энергопотреблении сейчас составляет, как это указано в наиболее свежем на сегодняшний день исследовании Международного энергетического агентства (МЭА), скромные 13%14. Предполагается, что данный показатель может вырасти к 2030 году до 20%. Однако этот же прогноз констатирует, что в 2030 году около 75% глобального энергетического спроса будут по-прежнему удовлетворяться за счет ископаемых видов топлива.
Что касается мобилизации финансов для оказания содействия развивающимся странам на климатические цели, то заявленный показатель в 100 млрд долларов был таки, как считается, достигнут в 2022 году15. Однако и эти объемы показались недостаточными. В 2024 году на 29-й Конференции Сторон РКИК (Баку, Азербайджан) была утверждена новая коллективная цель - достичь к 2035 году общего ежегодного объема помощи доноров в размере не менее 300 млрд долларов16. Аппетиты, как говорится, растут. А вот удовлетворит ли их новая согласованная цифра - большой вопрос. Еще в Баку стала лоббироваться идея выйти на уровень 1,3 трлн долларов. А некоторые эксперты утверждают, что объем помощи для достижения целей, связанных с климатом и природой, который потребуется к 2030 году, следует оценивать аж в 2,7 трлн долларов17. Только откуда взять эти баснословные суммы? США выходят из игры. А потянет ли донорскую ношу Евросоюз - вопрос, если учесть, что его военный бюджет на 2025 год может составить почти 332 млрд долларов18, а на ближайшие годы планируются дополнительные вливания в военные расходы в размере около 935 млрд долларов19 - в сумме аккурат те самые 1,3 триллиона. Вот куда рекой льются деньги!
Как видно из приведенных данных, результат достигнутого за десять лет не впечатляет (если только не поражаться растущим финансовым запросам). Говорить о прорывных успехах не приходится. Хуже, однако, то, что такое положение дел сопровождается обострением разнонаправленных геополитических и экономических интересов сторон и реанимацией старых подходов, которые вновь находят свое выражение на страницах важнейших ооновских документов. Так, в климатической части утвержденного ООН в прошлом году «Пакта во имя будущего»20 восстановлен, по сути, принцип общей, но дифференцированной ответственности, то есть то, что в течение многих лет переговоров пытались преодолеть во имя обеспечения универсального характера и экологической эффективности климатического режима.
Все это накладывает отпечаток не только на природный, но и политический климат.
Цвета и краски политической палитры климатического процесса
Если, как принято говорить, взглянуть на ситуацию с высоты птичьего полета, то можно увидеть, что проблематика изменения климата раскрашивает современную международную политическую палитру в цвета, отнюдь не радующие глаз.
США вновь выходят из ПС21. И теперь, на мой взгляд, уже безвозвратно. В этой связи ожидать от американцев участия в мобилизации отмеченных выше более чем амбициозных объемов финансовых ресурсов не приходится. Причем не только по линии ПС, но и РКИК (стороной которой США остаются), что прямо следует из соответствующего указа Президента США Д.Трампа22. При этом более важны даже не финансово-технологические и экологические аспекты, связанные с этим шагом (неучастие в общих усилиях и обусловленное выходом США снижение охвата мировых выбросов парниковых газов до 84,28%), а демотивирующая политическая составляющая: если это не нужно крупнейшей державе, мощнейшей экономике мира и одному из основных эмитентов парниковых газов, то почему должны «напрягаться» другие?
Жирной грязной кляксой на этой же палитре выделяется использование проблематики климата для прикрытия нечистоплотных политических схем и недобросовестной экономической конкуренции. Достаточно быть объективным внимательным наблюдателем, чтобы увидеть предпринимаемые Евросоюзом на различных международных площадках агрессивные попытки под флагом борьбы за экологию реструктурировать глобальный энергобаланс в выгодном для себя направлении, практически не допускающем многовариантности национальных энергетических стратегий, переформатировать профильные финансовые потоки, вплоть до нормативного ограничения инвестиций в проекты, связанные с ископаемыми источниками энергии. Очень хорошо помню, как в 2017 году Германия - явно не без участия Брюсселя - сделала эту идею одной из центральных в рамках своего председательства в «Большой двадцатке». Реализовать ее так, как этого им бы хотелось, немецким переговорщикам тогда не удалось - в первую очередь благодаря твердой позиции нашей делегации.
Но своих «хитрых заходов» евронаперсточники не оставили. Пытаясь всеми правдами и неправдами обойти рыночные механизмы и добиться ограничения цен на традиционные энергоносители (понятно, с прицелом в первую очередь на российские), они все время повторяли (причем еще задолго до февраля 2022 г.) и продолжают повторять сегодня мантру про так называемое низкоуглеродное развитие. И не без скрытого умысла!
Данный термин весьма однобок. Он на уровне нейропрограммирования фокусирует внимание рядовых граждан, не погруженных в специальные научные знания, прежде всего на углеродных факторах глобального потепления, связанных с использованием для энергогенерации нефти, газа, угля, что дает хитрецам от политики возможность шантажировать поставщиков традиционных энергоносителей (мол, эти виды топлива «вредоносные», их надо скорее выводить из потребления) и под бой барабанов экоактивистов пытаться влиять на ценообразование. Ловко! Не так ли? Однако, что уводится из поля зрения общественности? То, что изменение климата обусловлено воздействием множества газов, а не только диоксида углерода.
Да, СО2 является наиболее важным парниковым газом, образующимся в результате сжигания ископаемых видов топлива, но его доля «ответственности» за потепление - от 64% до 73%. При этом широко навязанный нарратив ретуширует остальную (и весьма существенную!) часть климатического досье - вклад в глобальное потепление метана23 (его доля - около 19%), закиси азота (около 6%), фторсодержащих газов и т. д.24.
Поэтому говорить о низкоуглеродном развитии (а тем более использовать это выражение в официальных материалах) можно лишь тогда, когда имеется в виду оценка общей нагрузки на климатическую систему, рассчитываемая на основе условной единицы - эквивалента СО225, но никак не применительно к прикладным стратегиям экономического развития. И помнить: в итоговых документах Парижской конференции и в самом ПС нет понятия «низкоуглеродное развитие», а есть термины «стратегии долгосрочного развития с низким уровнем выбросов парниковых газов», «развитие при низком уровне выбросов парниковых газов» и «достижение сбалансированности между антропогенными выбросами из источников и абсорбцией поглотителями парниковых газов». А это совсем другая история! И у нее совсем другое «юридическое послевкусие». Фиксация в ПС именно таких формулировок была одним из достижений российской дипломатии.
И, конечно, свою лепту в повышение градуса климатических дискуссий вносят настойчивые попытки апологетов «климатического кризиса» вывести глобальное потепление на уровень угрозы международному миру и безопасности. В качестве аргументов используются ссылки на продовольственную безопасность, голод, конфликты за разделяемые водные ресурсы, тезисы о «климатических беженцах», влиянии изменения климата на риски нестабильности в различных регионах мира и т. д. В результате Совет Безопасности ООН уже не раз проводил встречи по связанной с климатом повесткой дня26, что только отвлекает его от рассмотрения действительно горячих проблем войны и мира. Не давая очевидной добавочной стоимости по существу вопроса, это ведет лишь к политизации климатического процесса и подпитывает его антагонизмы.
Вот так политически заряжено и со множеством острых подводных камней выглядит международный климатический процесс.
Вместе с тем сегодня некоторые признаки - отмечаю это с удовлетворением - указывают на то, что лихорадочный пульс «климатической горячки», спровоцированной экологическим экстремизмом последних полутора десятилетий (веду отсчет от скандального климатического саммита 2009 г. в Копенгагене27), начинает нормализовываться. Переломный момент международной жизни, который мы переживаем, все расставляет по своим местам. В последние годы вы не увидите климата в заглавных темах или в первых строках повестки дня саммитов не только таких значимых международных объединений, как, например, «Большая двадцатка», БРИКС, ШОС, АТЭС, но даже «Группы семи»28. Это, конечно, не означает, что ему вовсе не уделяется внимание в текстах тех или иных итоговых документов, но общий нисходящий тренд уже просматривается. И это хорошо.
Убежден, проблему глобального изменения климата следует рассматривать с холодной головой, опорой на науку (в т.ч. - это особенно важно - национальную), воздерживаясь от алармизма, а тем более использования темы в узкокорыстных политических и экономических целях, и решать ее общесистемно наряду с другими глобальными экологическими вызовами, а не в сверхприоритетном по отношению к ним порядке. Так, как это, собственно, и задумывалось по итогам Конференции ООН по окружающей среде и развитию 1992 года, заложившей базовые принципы коллективного движения к устойчивому развитию. Изменять, а уж тем более подменять в угоду сиюсекундной конъюнктуре эти согласованные на основе консенсуса принципы было бы большой ошибкой со всех точек зрения - и научной, и политической29.
Вывод из всего сказанного самый очевидный: только политический прагматизм в сочетании с научно выверенным подходом сохранит мировому сообществу шанс на достижение реальных результатов в рамках сотрудничества на климатическом треке.
1Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 г. на 21-й сессии Конференции Сторон РКИК ООН в Париже (отсюда название соглашения); Киотский протокол - вступил в силу 16 февраля 2005 г.; Рамочная конвенция ООН об изменении климата вступила в силу 21 марта 1994 г.
2Резолюция Генассамблеи ООН A/RES/45/212.
3Страны с переходной экономикой, включая Российскую Федерацию, были выведены за рамки списка доноров, перечисленных в Приложении II к РКИК; соответственно, Россия не несет юридических финансовых обязательств по РКИК, касающихся предоставления помощи развивающимся странам.
4О всех перипетиях с принятием Дохийской поправки и крайне неприглядной роли Евросоюза в этом процессе я писал ранее (см.: Шаманов О. «Киото-2»: «хромая утка» западноевропейской климатической дипломатии» // Международная жизнь. 2020. №11).
5Решение 1/CP.17, FCCC/CP/2011/9/Add.1.
6По официальной информации, представленной к моменту принятия ПС самими сторонами, процентная доля в глобальных выбросах (в эквиваленте СО2) составляла: Китай - 20,09%, США - 17,89%, Евросоюз - 12,08%, Россия - 7,53%, Индия - 4,1%, Япония - 3,79%, Бразилия - 2,48%, Республика Корея - 1,85%, Мексика -1,7%, Индонезия - 1,49%, ЮАР - 1,46%. Следует пояснить, что в силу различного потенциала национальных метеослужб эти данные различались по степени свежести и точности. У группы развитых стран они относились к 2013 г., а у развивающихся - к диапазону 2000-2010 гг. Для общей оценки положения дел они были сочтены приемлемыми (Доклад 21-й Конференции Сторон РКИК, FCCC/CP/2015/10).
7Авторство этой формулы принадлежит моей давней коллеге по переговорам С.Биниаз, на ту пору старшему советнику Офиса спецпосланника по климату Госдепартамента США, высококлассному юристу, а главное - вдумчивому переговорщику, всегда открытому к взаимоуважительной и непредвзятой профессиональной дискуссии.
8По завершении всех необходимых внутринациональных процедур Россия стала стороной ПС 7 октября 2019 г.
9На основе данных научной платформы «EDGAR - The Emissions Database for Atmospheric Research». Несмотря на свою аффилированность с Еврокомиссией, в научном отношении она дает достаточно полную и объективную статистику по выбросам СО2, поэтому используется в данной статье в качестве основного источника. По ряду указанных ранее причин (см. сноску 7) цифры по глобальным эмиссиям, приводимые в Докладе 21-й Конференции Сторон РКИК (FCCC/CP/2015/10), не обеспечивают научной полноты.
10Решение 2/CP.15, FCCC/CP/2009/11/Add.1.
11Самые свежие статистические данные, имеющиеся на сегодняшний день, относятся к 2023 г.
12ВМО, «Состояние глобального климата в 2024 году», 2025 г.
13Выступление Исполнительного секретаря РКИК С.Стила на форуме «Петерсбергский климатический диалог», Берлин, Германия, 25 марта 2025 г.
14МЭА, «Renewables 2024 - Analysis and forecast to 2030», октябрь 2024 г. По понятным причинам самые последние статистические данные, вошедшие в доклад, относятся в 2023 г.
15Пресс-релиз ОЭСР «Developed countries materially surpassed their USD 100 billion climate finance commitment in 2022 - OECD», 29 мая 2024 г.
16Решение 1/CMA/6 6-го Совещания Сторон ПС, FCCC/PA/CMA/2024/17/Add.1.
17Raising ambition and accelerating delivery of climate finance. Third report of Independent High-Level Expert Group on Climate Finance. November 2024.
18Jacques Delors Institute, «EU Member States’ defence budgets»; в пересчете на доллары по текущему курсу // https://institutdelors.eu/content/uploads/2025/04/Infographie_Defense_UE_Part1_Budgets_A4_EN.pdf
19Boosting European defence expenditure // European Council // https://www.consilium.europa.eu/en/policies/european-defence-expenditure
20Пакт во имя будущего, A/RES/79/1.
21США перестанут быть стороной ПС 27 января 2026 г., Depositary Notification C.N.71.2025.TREATIES-XXVII.7.d
22The White House, Presidential Actions: «Putting America First In International Environmental Agreements». Executive order, 20.01.2025 г.
23Да, метан также относится к классу углеродов, но в указанном смысловом ряду, как правило, выпадает из поля зрения общественности.
24Для правильного понимания климатической проблемы следует учитывать, что общие выбросы парниковых газов - это сумма эмиссий не только антропогенного происхождения, но и тех, что обусловлены естественно-природными процессами (и по ряду параметров, например, применительно к метану, доля естественных источников может быть весьма значительной).
25В соответствии с принятой методологией для калькуляции оценки общего воздействия на климатическую систему эмиссии всех видов парниковых газов пересчитываются в эквивалент СО2.
26Впервые официальное заседание СБ ООН по теме «Изменение климата» состоялось в апреле 2017 г. по инициативе Великобритании. Позднее проводились встречи и в иных, неофициальных, форматах.
27Подробнее см.: Шаманов О. «Киото-2»: «хромая утка» западноевропейской климатической дипломатии» // Международная жизнь. 2020. №11.
28Последние примеры подготовки на упомянутых площадках специальных документов по климату относятся к 2022 г.: «Statement by the Shanghai Cooperation Organisation Heads of State Council on climate change response» (16 сентября 2022 г.); G7 «Terms of Reference for the Climate Club» (12 декабря 2022 г.).
29На сей счет имеется целый ряд соображений, однако это тема отдельного разговора, который в формат данной статьи не вписывается.
Читайте другие материалы журнала «Международная жизнь» на нашем канале Яндекс.Дзен.
Подписывайтесь на наш Telegram – канал: https://t.me/interaffairs

 15:57 23.10.2025 • Олег Шаманов, Советник-посланник Посольства России в Таиланде, заместитель постоянного представителя России при ЭСКАТО
15:57 23.10.2025 • Олег Шаманов, Советник-посланник Посольства России в Таиланде, заместитель постоянного представителя России при ЭСКАТО