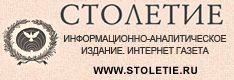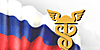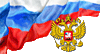Приходилось ли вам, читая одно из самых глубоких и абсолютно совершенных стихотворений А.С.Пушкина «Роняет лес багряный свой убор», задумываться, кому оказались в итоге посвящены его самые, возможно, проникновенные во всей русской поэзии строки:
Невидимо склоняясь и хладея,
Мы близимся к началу своему...
Кому ж из нас под старость день лицея
Торжествовать придется одному?
Несчастный друг! Средь новых поколений
Докучный гость и лишний, и чужой,
Он вспомнит нас и дни соединений,
Закрыв глаза дрожащею рукой...
Гений Пушкина подсказал ему блестящее осмысление образа, как и поразительную достоверность самого характера, даже без персональной угаданности, невозможной, естественно, в пору счастливого 26-летия. Нам, потомкам, уже кажется логичным и неизбежным, что «несчастным другом» стал не поэт, не бунтарь, а устремленный на долг и дисциплину, ответственный и организованный в длительном служении государственный деятель.
Да, последним лицеистом пушкинского набора оказался российский канцлер и министр иностранных дел (с 1856 по 1882 г.) князь Александр Михайлович Горчаков, который стал как бы живым морально-мировоззренческим мостом между романтической эпохой русской государственности, как ее отражали оды Державина и Жуковского, и эпохой прагматической, расчетливой, достойной публицистики М.Щедрина, Ф.Достоевского, Л.Толстого. Он успел вписаться и в те и в другие правила, притом вызывая в юности ряд упреков за чрезмерную скрупулезность и системность, явно опережавшие время, в старости - за лицейские атавизмы романтического прекраснодушия. Слыл и либералом, слишком снисходительным к врагам России, и твердым консерватором незыблемых имперско-монархических устоев. Жалуясь время от времени на начальственную и даже монашью опалу, сделал блистательную государственную карьеру, достигнув высших чинов и наград империи.
Но при всех оттенках и колебаниях точек зрения редкостно для знатного царского сановника избежал репутации реакционера и одиозной фигуры, каких-либо обвинений в агрессивном мракобесии и тому подобных грехах. Даже советские историки дипломатии, не жаловавшие защитников коронованного двуглавого орла, при всей необходимой критике отзывались о нем с неизменным уважением.
Эту интригу горчаковской дипломатической биографии и стоит рассмотреть - профессиональную судьбу одаренного дипломата, в эпоху глубоких международных катаклизмов озабоченного устойчивым плаванием российского государственного корабля.
Итак, перед нами жизненная дистанция длиной почти в век. На заре туманной юности - блестяще образованный честолюбивый молодой человек из сословной (князь) и интеллектуальной элиты. На закате - вполне сохранившийся, достойного вкуса и стиля господин, на официальном фотоснимке отнюдь не помпезно-казенный, а располагающе артистичный: свободные локоны, изысканная «бабочка», фрак, пенсне, но и твердая, утяжеленная упорством нижняя челюсть волевой натуры. Он легко узнается абрисной связью с профильным рисунком Пушкина на одном из трех его посланий юному князю А.М.Горчакову. Та же массивная челюсть, очки, локоны, русский нос «уточкой». Зеркало тех качеств, которые друзья и воспитатели отмечали восхищением. С детства знаток математики, истории, географии, русской словесности, нескольких языков, в лицее - пламенный читатель Кантемира, Ломоносова, Батюшкова, Жуковского, Карамзина, в воспитательном отчете отмечен всеми превосходными степенями. «Благородство с благовоспитанностью, крайняя склонность к учению с быстрыми в том успехами, ревность к пользе и чести своей; всегдашняя вежливость, нежность и искренность в обращении, усердие ко всякому, дружелюбие, чувственность с великодушием его, пылкость ума и нравы его выражают быстрая речь его и все его движения; при всем том он осторожен, проницателен и скромен...»
А вот это уже, согласитесь, при всех насмешках отзвук той самой крепкой челюсти и системности в решении задач, чему можно завидовать и всерьез. Лицеист пишет приятелю за стены заведения: «Горчаков благодарит тебя за поклон и хотел было писать, да ему некогда. Поверишь ли? Этот человек учится с утра до вечера, чтобы быть первым учеником». Вот они, тщательность и система, которые сам юный князь неслучайно ценил и в своем учебном заведении. «Лицей словно хорошо отлаженная машина, которая всегда идет своим ходом, не останавливаясь», - пишет он из его стен.
Крайне любопытно с точки зрения дальнейшей темы и свидетельство единственного сохранившегося номера журнала «Императорского Царско-сельского лицея Вестник» от 3 декабря 1811 года. В разделе хроники запечатлена мальчишеская ссора Саши Горчакова с двумя одноклассниками - Ломоносовым и Масловым. Но не в том дело, а в последовавшей «секретной експедиции», посланной Горчаковым для переговоров с «соперниками», и процессе примирения «сих трех знатных особ». Это уже настолько явная природная склонность к дипломатии, что и добавить нечего. К выпуску он вполне четко осознал свое призвание. Юный князь без всякого тумана формулирует: «Я избрал себе статскую и из статской благороднейшую часть - дипломатику».
В стихотворении «19 октября» (1825 г.) Пушкин посвятил своему лицейскому товарищу следующие строки:
Ты, Горчаков, счастливец с первых дней,
Хвала тебе - фортуны блеск холодный
Не изменил души твоей свободной:
Все тот же ты для чести и друзей.
Нам разный путь судьбой назначен строгой;
Ступая в жизнь мы быстро разошлись:
Но невзначай проселочной дорогой
Мы встретились и братски обнялись.
Встреча опального поэта и отпускного дипломата состоялась в деревеньке близ Михайловского у дяди Горчакова (кстати, псковского предводителя дворянства) летом 1825-го, где Пушкин читал отрывки из «Бориса Годунова». Спустя полгода князь выдержал серьезнейший тест на честь и порядочность. На другой день после восстания декабристов он явился к своему сокурснику Пущину и предложил ему заграничный паспорт для бегства. Пущин, как известно, предпочел разделить участь товарищей.
Еще два лицейских штриха. В доверительной юности он уговорил Пушкина сжечь рискованную антиклерикальную поэму «Монах», чреватую для автора Сибирью. И сам вызвался привести этот приговор в исполнение. Поэма считалась сожженной, однако после смерти Горчакова ее нашли опечатанной в его архиве. И никто никогда не слышал ни звука. Вот что такое хранить тайну, благодаря которой до потомков дошел один из юношеских шедевров гениального друга. Тоже немаловажный штрих характера.
Наконец, декабристы. Официальный ответ на официальные вопросы - не знал, не видел, не слыхал. Но в мемуарных записках проскальзывает: с декабристами не пошел «потому, что всем и каждому из них я твердил, что питомцам лицея, основанного императором Александром Павловичем, не подобает ни прямо, ни косвенно идти против августейшего основателя того заведения, которому мы всем обязаны»1. Но если твердил «всем и каждому из них», то, значит, знал. И проницательный современник, Петр Долгорукий, подтверждает: прекрасно все знал, Пущин его вовлекал, но дипломат предпочел отказаться, даже заспешил в Лондон, сократив время отпуска. Однако тут важно, что знал - и не донес, и император Николай Павлович, всю жизнь по поводу декабристов комплексовавший, не простил ему этого, окатывал холодом.
С такими представлениями о долге и порядочности блестяще образованный молодой дипломат вступает на внешнеполитическое поприще. «19-ти лет, в чине титулярного советника, начал я свою карьеру под покровительством и руководством знаменитого впоследствии президента греческой республики графа Каподистрия», - пишет он в своих мемуарах, особо отмечая: «При самом начале своей службы я уже возбуждал чувство зависти».
Как не позавидовать: камер-юнкер (Пушкин сподобился этого звания где-то за 30) в свите Александра I, в аппарате графа Нессельроде на конгрессах Священного союза в Лайбахе, Троппау, Вероне в пору наибольшего влияния в нем России. Да еще цитата из того же позднего Горчакова: «В молодости я был так честолюбив, что одно время носил яд в кармане, решаясь отравиться, если меня обойдут жестоко».
Однако во что же уходит это неукротимое честолюбие? В самую рутинную и исполнительную службистику. Он - лучший протоколист мидовской канцелярии. Князь и камер-юнкер ведет протоколы Троппау-Лайбахского конгресса. Это нешуточный труд, где блеск способностей соединен как раз с той самой упорной волевой челюстью. Из-под пера Горчакова только для архива ушло на родину 1200 (!) донесений за три конгрессовских месяца. Директор мидовской канцелярии в самых превосходных степенях благодарит его за эти материалы: «Немногие из служащих имеют Вашу силу знания и воли». Еще чуть позже, уже пройдя секретарство в посольствах Лондона, Рима и Берлина, выйдя на самостоятельный уровень, хоть и в углу Европы (поверенный в делах во Флоренции и Лукке с
30 декабря 1830 г.), он также непоколебим в отчетной систематике и не гнушается самой черновой канцелярией. И то же канцелярское начальство дает высокую оценку ему, уже камергеру двора, из далекой столицы: «Приятно отдать должное Вашим докладам, отмечая тот интерес, который Вы умеете им придать, а также и то, что они все более и более свидетельствуют о Вашем усердии к службе».
Разумеется, идейно-политически Горчаков не может не разделять целей и задач императорской России и Священного союза. Возникшая в 1815 году эта «лига наций», победивших Наполеона (Россия, Австрия и Пруссия, с присоединением впоследствии большинства других европейских монархов), провозгласила взаимопомощь в поддержании неприкосновенности европейских границ и «легитимности» правящих систем после шока наполеоновских разбоев. Под этим благопристойным в принципе лозунгом Священный союз перемолотил несколько волн антифеодальных и национальных революций и остался в истории «жандармом Европы». Горчаков все еще на периферии событий, во Флоренции, впрочем тоже вблизи одного из котлов, потрясающих власть папства и вызывающих на себя штык Австрии. Его сообщения в столицу превышают полномочия событийного отчета. Депеши становятся все более аналитическими и отнюдь не «упертыми» в принципы легитимной незыблемости. Судите сами, чем он больше обеспокоен:
«Если вслед за новой интервенцией не последует улучшение благосостояния жителей Италии, если не будет проведено подлинное, а не фиктивное упразднение злоупотреблений, давлеющих над этой страной, монархический принцип потеряет доверие простых людей всех стран; если это доверие будет хоть раз поколеблено, зло, задушенное с помощью силы, вновь появится и станет еще более интенсивным»2.
Биографы отмечают серьезную болезнь Горчакова в конце 1831 го-
да, когда он почти на два года выбыл как бы на больничный лист. Вполне возможно, учитывая, что как долгожитель он должен был обладать довольно прочным физиологическим здоровьем, наложились и нервно-психический стресс, и мировоззренческий кризис. Царящее повсюду вместо обещанного мира и евроспокойствия кровавое насилие настраивает пессимистически. Естественно, он как никто далек от революционности и считает ее «злом» и разбоем. Но просвещенное реформаторство впитано им с лицейским молоком и не раз принесет ему репутацию опасного либерала.
Переболев пик революционных волнений и расправ с ними, с ноября 1833 года на целых шесть лет Горчаков оказывается в Вене, советником посланника, иногда и замещая его. Это крупный европейский перекресток, где пересекаются геополитические интересы, простирающиеся и на Босфор с Дарданеллами, и на территорию балканских славян, жаждущих покровительства христианских правительств в борьбе за национальную независимость. Как отмечают историки российской дипломатии, его главная задача в те годы - предотвращение австро-английского единения в свете острой английской заинтересованности остановить продвижение России на линии Кавказа, Черного и Каспийского морей. Главным его партнером и оппонентом является австрийский министр князь Меттерних.
П.В.Долгоруков в «Петербургских очерках» пишет: «Меттерних... не любил князя Горчакова за его русскую душу, за его русские чувства, за его неуступчивость в переговорах, неуступчивость, всегда прикрытую отменным знанием приличий, вежливостью самой изящною, но тем не менее весьма неприятною для Меттерниха».
Не больше повезло Горчакову и с любовью собственных сановников, приближенных к трону. К этому времени относится известный эпизод со всемогущим графом Бенкендорфом, когда после встречи трех императоров (России, Австрии и Пруссии) в сентябре 1835 года в Теплице Николай I со свитой остановился в Вене. Приняв в отеле с докладом заместителя посланника, Бенкендорф поручил ему заказать у хозяина отеля обед. Горчаков, дабы показать разницу между порученцем и дипломатом, дернул за веревочку колокольчика и вызвал метрдотеля, предложив графу заказать обед самостоятельно. После таких демаршей читаем в списке III отделения вполне определенную характеристику: «Князь Горчаков не без способностей, но не любит Россию».
Неудивительно поэтому, что не состоялось его назначение посланником в Царьград, и в декабре 1841 года Горчаков отправляется в Штутгарт, к Вюртембергскому двору, в одно из 38 самостоятельных немецких государств. По собственному признанию, незначительность объекта, площадью с часть Петербургской губернии, его мало смутила: «Это не важно, а важно поставить ногу в стремя». Стиль и напряженность работы Горчакова поражали. По свидетельству сотрудника, он «посылал нередко рано утром будить секретарей посольства, чтобы диктовать им ту или иную депешу, и когда один из них приходил к нему в кабинет, он уже заставал князя диктующим. Такая у него была горячая и нетерпеливая натура».
Депеши отражали многие аспекты европейской жизни, говоря о широком диапазоне интересов и компетентности автора: от тревог Вюртембергского двора по поводу Французской революции до железнодорожного строительства, подчеркивая, что это «необходимость нашей эпохи»; от роли политических партий и уровня благосостояния низших слоев до педантичного изложения местного бюджета.
Большим дипломатическим мероприятием того периода были подготовка, а затем бракосочетание в 1846 году принца Карла-Фридриха-Александра и русской великой княжны Ольги Николаевны. Судя по наградам с обеих сторон и пожалованию в тайные советники, Горчаков с этой миссией справился превосходно.
Однако весь комфорт и межгосударственная идиллия основательно подпорчены очередной волной европейских революций. Ею охвачены южная Германия, Австрия, Венгрия, Франция, как всегда Италия, и т. д. Голодные бунты переплетаются с яростью национального самосознания. «Топор уже стучит в основание социального дерева», - идет от Горчакова в Петербург. В условиях постоянной опасности проявляется, как обычно, свойственное ему чувство долга. В письмах дяде он пишет:
«Социальная почва слишком напряжена, и непосредственное соседство с революцией слишком угрожающе, чтобы можно было спокойно спать... Я полагаю, монаршье мнение завоевано, так как здесь были моменты, когда надо было пройти огонь и воду». То, что «монаршье мнение завоевано», подтвердил более поздний рескрипт следующего императора: «Вы имели случай показать особенную твердость в смутное время 1848 года и снискали доверие к себе блаженной памяти Родителя моего императора Николая I»3.
По крайней мере, от министерской должности Горчакова отделяли еще две ступени карьерной лестницы. С января 1850-го он, не расставаясь со Штутгартом, еще и чрезвычайный посланник и полномочный министр при Германском союзе. Во Франкфурте-на-Майне, резиденции общегерманского парламента, начинал тогда свою знаменитую карьеру Отто фон Бисмарк, представитель Пруссии. Их знакомство и партнерство произвели на Бисмарка неизгладимое впечатление. По-разному отзываясь о Горчакове на разных этапах своего пути, Бисмарк не раз заявлял о том, сколько он обязан «дорогому князю» и «глубоко-чтимому другу» в своем политическом становлении.
По всеобщему признанию, наиболее комфортно и раскованно князь Горчаков чувствовал себя в самых просвещенных европейских центрах, где в начале 1850-х годов, наезжая с визитами, блистал на традиционных обедах в центре многих салонов, цитируя Шиллера, Байрона, Гёте и, несомненно, олицетворяя для европейцев лицо просвещенной России.
Вместе с тем с началом 1850-х годов на Россию начинает неумолимо надвигаться «восточный вопрос». В 1853 году вспыхнула Крымская война. Первые победы (Синоп, ноябрь 1853 г.), как известно, сменились вводом англо-французского флота в Черное море и высадкой союзного экспедиционного корпуса в Евпатории (сентябрь 1854 г.). Незадолго до этого (июль 1854 г.) Горчаков был переведен в Вену сначала управляющим посольства, а затем посланником при австрийском дворе с главной целью - удержать Австрию от выступления с Англией и Францией против России. Его встреча с молодым императором Францем Иосифом длилась три часа. В записанном разговоре с австрийским министром иностранных дел графом Буолем слова Горчакова звучат так:
«Если мы уладим наши разногласия и западные державы нападут на вас в Италии, вместе с вами будет вся Германия и поддержка наших сил. Следовательно, вам нечего будет бояться и вы удержите за собой союз, освященный сорока годами мира. Если, напротив, вы присоединитесь к нашим врагам... вы будете иметь позади себя прежнего друга, проникнутого справедливым негодованием, 60 миллионов оскорбленных людей, готовых подняться по воле одного»4.
В Вене же началась и затянувшаяся чуть ли не на год (с учетом предварительного совещания) конференция диппредставителей конфликтующих сторон - России, Франции, Великобритании, Турции - и принимающей их Австрии. Уникальная ситуация в мировой истории: армии ожесточенно воюют под Севастополем, в то время как дипломаты их стран ведут пространное обсуждение условий мира. Наиболее болезненное недоразумение состоит в том, что Наполеон III выдвинул Николаю I ноту, к которой присоединились и союзники, вполне приемлемую для России. О сдаче Севастополя тогда не было и речи. Горчаков, с одной стороны, склоняет Николая I принять эти условия, но поскольку царь медлит и надеется на силу, должен демонстрировать оппонентам могучую неуступчивость как правоту и уверенность. Он сравнивает Россию с быком, которого дразнят красной тряпкой, чтобы сильнее ударил рогами.
Царь принимает условия, но поздно, и это опоздание стоит России Севастополя. Заканчивать войну приходится уже с новым императором, Николай I в разгар ее умирает, и все смятение чувств русского посла передают его, вероятно, очень искренние слова:
«Вы не имеете права сомневаться в правдивости моих слов, если я скажу, что предпочел бы стать простым солдатом с ружьем в руках на бруствере самого угрожающего пункта, например, на четвертом бастионе, чем быть представителем России на Венской конференции»5.
В марте 1856 года был подписан Парижский мирный договор. В России царила всеобщая оскорбленность, во-первых, от жестокого военного поражения, во-вторых, от выявившейся им всесторонней деградации.
И одним из первых, кто все же понимает, что «нет худа без добра», что происшедшее при всей горечи равносильно разрядке и этой разрядкой необходимо воспользоваться во благо России, оказывается назначенный в апреле 1856 года министром иностранных дел (на 40-м году своего дипломатического стажа) князь Горчаков. Как это можно прочитать в его знаменитом циркуляре №1, первом из известных в Европе циркуляров Горчакова, читавшихся там как художественные произведения.
Существует довольно устойчивое представление, что ставшая крылатой в Европе фраза первого горчаковского циркуляра: «Говорят, Россия сердится. Нет, Россия не сердится, она собирается с силами», - являлась недвусмысленной угрозой торжествующим врагам и обещанием поквитаться. Однако другая трактовка этой французоязычной реплики - «Россия сосредотачивается» - и попытка проследить ход мысли искушенного дипломата наталкивают на иные догадки. Своим читателям Горчаков неоднократно внушает мысль, что Россия должна освободиться от бремени решения «чужих задач», «заняться исключительно своими, в собственном смысле слова, национальными, теми единственно благодарными задачами, за просвещение и широкое исполнение которых она может быть вознаграждена сторицей». Можно предположить, что Горчаков смотрит на вещи глубже - прежде всего с точки зрения ресурсного, экономического, демографического истощения государства. В упомянутом циркуляре этот пафос звучит публицистически настойчиво. Как представляется, зерно циркуляра - в реплике такого рода:
«Император решил предпочтительно посвятить свои заботы благополучию своих подданных и сосредоточить на развитии внутренних ресурсов страны свою деятельность, которая будет направлена на внешние дела лишь тогда, когда интересы России потребуют этого безоговорочно»6.
И тут посещает мысль, что приподнятая публицистичность этих строк направлена не столько на внешних слушателей в лице европейских правительств и дипломатов, сколько внутренних, от которых это благополучие зависит. И прежде всего - на того главного внутреннего адресата, который вроде бы и «решил предпочтительно», но которого еще надо окончательно и бесповоротно склонить к этому решению. Служивший на рубеже 1850-1860-х годов в Петербурге прусским посланником Бисмарк весьма тонко улавливает этот стиль отношений царя и вельможи:
«Если император когда-нибудь почувствует, что Горчаков ловко и незаметно, всякий раз под новым предлогом, умеет отклонить его от собственных целей, то он окажет сопротивление, доходящее до упрямства; но Горчаков умеет блюда, которые он стряпает... всякий раз поливать новым соусом, который по вкусу императору, и до сих пор он самостоятельно держит руль в своих руках, и императорский корабль идет по данному им направлению»7.
В целом по тем временам Горчаков - сторонник реформ. Высказывания князя недвусмысленны, хотя, разумеется, нереволюционны. Необходимость освобождения крестьян (без земли) для него очевидна, как и многие другие преобразования. В полемике он бывает так же образен, как и в документах. Это не ускользает от общественности, не избалованной публичностью столь важных сановников. Современники записывают его выступления:
«Из всех кораблей при волнении выбрасывают балласт вон, чтобы корабль носило по волнам, а наш балласт, мешающий легкому ходу, - цензура, и его надо выбросить»8.
Такова исходная его 25-летнего министерского правления, где впереди ему предстоит снискать как восторженные аплодисменты патриотической и просвещенной общественности, так и столь же яростные проклятия от нее же.
Нет дипломатии без гибкости и переменчивости в связи с ветрами внешних и внутренних воздействий. В знаменитую эпоху горчаковского «балансирования» и «выжидания» - тем более. В частности, долгоиграющая «пластинка» политического диалога с Германией и персонально - с Бисмарком.
Пруссия несколько раз в критические моменты сохраняет нейтралитет в отношении России в европейских катавасиях. В крымские годы, например, из-за исторического антагонизма с соседней Францией или во время польского восстания 1863 года, когда вся Европа обличала Россию. Не побоявшись заявить перед своим парламентом, что быстрое подавление мятежа соответствует интересам Пруссии, «железный канцлер» со свойственной ему бюргерской прагматичностью разъяснял:
«Что Россия ведет не прусскую политику, знаю я, знает всякий. Она к тому и призвана. Напротив, долг ее - вести русскую политику. Но будет ли независимая Польша вести прусскую политику?.. Озаботится ли, чтобы Познань и Данциг остались в прусских руках?»9.
Устойчиво мнение, что Бисмарк при всех противоречиях хорош тем, что всегда предостерегал Германию от войны с Россией. Действительно, под его канцлерством Пруссия, а затем объединенная Германия с кем только не воевала (Австрия, Дания, Франция), но с Россией держалась в принципе корректно. Вероятно, этим руководствовался Горчаков, когда писал: «Чем более я изучаю политическую карту Европы, тем более я убеждаюсь, что серьезное и тесное сближение с Пруссией есть наилучшая комбинация, если не единственная»10. Разумеется, не ради усиления Германии проводил русский канцлер эту политику. У него была высшая цель: отмена Парижского трактата о Крымской войне, и ради него он поддержал Пруссию в войне с Францией (закончившейся перепугавшей уже всех вместе вспышкой Коммуны), не отказав, впрочем, ласково принять в Петербурге премьера уже не императорской Франции Тьера (сентябрь 1870 г.) и пообещать содействие в установлении не унизительного мира.
Этот момент и был найден лучшим для провозглашения отказа от статей Парижского трактата. Горчаков убедил царя, что бывшая коалиция достаточно ослаблена и противоречива, чтобы отреагировать на демарш России в жестком духе. 19 октября (случайно ли, что в День лицея?) 1870 года русским послам была отправлена депеша об их одностороннем аннулировании. Документ составлен в торжественном и даже эпическом тоне, достаточно многословен и обстоятельно аргументирован. «В то время, как Россия разоружилась в Черном море... Турция сохранила право держать неограниченные морские силы в Архипелаге и проливах; Франция и Англия сохранили возможность концентрировать свои эскадры в Средиземном море... Результатом этого противоречия является то, что берега Русской империи являются открытыми для всякой агрессии...»11.
Речь о том, что, поскольку гарантии эффективного нейтралитета Черного моря не обеспечены теми же союзниками по коалиции, Россия возвращает себе право держать там военный флот и создавать базы, крепости и арсеналы. Доброжелательные отношения с Турцией и гарантии ее безопасности со стороны России сохраняются в полном соответствии с трактатом. Принятый в марте 1871 года в Лондоне документ с суховатым названием «Договор об изменении некоторых статей Парижского трактата 1856 года» вызвал неописуемый восторг широких слоев русской публики, в том числе группы русских писателей-прозаиков, включая Ф.М.Достоевского. Их коллективное письмо «А.М.Горчакову» от 30 ноября (12 декабря) 1870 года из Дрездена просто поет.
«Мы счастливы тем, что можем и отсюда, братски и единодушно собравшись вместе, заявить Вашему сиятельству о радостных чувствах, испытанных каждым из нас при чтении Вашей депеши. Нам как бы послышался в ней голос всей нашей великой и славной России. Каждый из нас, гордясь именем Русского, читал эти слова, исполненные правды и высочайшего достоинства. Мы молим бога о счастье нашей возлюбленной родины, и да сохранит ее надолго от испытаний. Молим, да сохранит ей на долгие годы нашего обожаемого государя-освободителя, а ему таких доблестных слуг, как Вы»12.
Именным высочайшим указом от 29 марта 1871 года, министру иностранных дел, государственному канцлеру князю Александру Михайловичу Горчакову пожалован, с нисходящим его потомством, титул светлости.
Однако главное испытание ожидало Горчакова впереди и было связано, казалось бы, со знаменательным событием отечественной истории - победой в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Для понимания происходящего нужно представлять себе общественный фон, существовавший в России в то время: приподнятая активность славянских комитетов, солидарных с борьбой балканских славян, благотворительность и всемерная агитация за военную помощь братьям, идеи единства славян от Балкан до Китая, всеобщее ликование, встретившее объявление русско-турецкой войны и отправку войск на Балканы
25 апреля 1877 года. Для многих не только военных, но и вполне гражданских общественных деятелей не составляло сомнения, что «Константинополь, рано ли, поздно ли, должен быть наш».
На фоне этой эйфории Горчаков сразу ставит пределы возможного, и они на редкость скромны. Цель войны в его понимании - «понуждение султана к дарованию своим христианским подданным прав и преимуществ, выговоренных в их пользу Европой, и отнюдь не распад Оттоманской империи и окончательное разрешение восточного вопроса». Еще одна цель - истинно дипломатическая и вполне, можно сказать, патриотическая - не дать войне разрастись, локализовать ее. И тут, думается, не в одну пользу сохранения Турции, а убережения и России от излишнего кровопролития.
В глазах героев Шипки и Плевны, солдат и генералов, мерзших на перевалах, в глазах тех, кто к январю 1878-го считал Константинополь взятым, такая идеология могла сойти за предательскую. Ведь полагал же неукротимый Скобелев предательством даже подписание Сан-Стефанского мира в виду стамбульских минаретов и клял императорский двор за «онемеченную» измену общеславянским и российским интересам.
Еще большим упрекам и обвинениям Горчаков подвергся за Берлинский трактат, подписанный летом того же, 1878 года после конференции, созванной по инициативе и под председательством Бисмарка для окончательного урегулирования конфликта. Но почему же отрицать, что причиной могла быть не «позорная уступчивость», не «антирусский нигилизм», а объективная реальность, оказавшаяся непреодолимой? Кто-то должен был предвидеть всю глубину и готовность к сопротивлению азиатско-мусульманского мира, открывающегося за Стамбулом, и то количество крови, которое может пролиться в дальнейшем боевом соперничестве. И, несомненно, традиционную изменчивость европейских держав в отношении России.
Исчерпывающие ответы на все брошенные обвинения даны в политическом завещании Горчакова, которым можно считать найденную в Архиве внешней политики Российской империи его докладную записку «Берлинский конгресс перед русским общественным мнением». Он повторяет свое кредо: «Берлинский конгресс был встречен как давно желанный исход теми русскими людьми, которые взвешивали цели и средства, с самого начала не увлекались войной». Согласившись, что после блистательных побед делаются «непонятные для публики уступки», он обращает внимание все же на «неведение как собственных сил, так и сил противников». «Многие до сих пор готовы еще думать, как и во времена оно, что мы всех закидаем шапками». Предостерегая от войны с чисто благотворительными, филантропическими целями помочь страдающим братьям, он как суровый реалист утверждает: «Война и филантропия всегда были и будут две несовместимые вещи». «Соединение смутной филантропии со смутным честолюбием - вот что произвело то опьянение, которое постигло русское общество перед последней войной».
Но даже не это главное, а реалистическое самоограничение целей, которые способны увлечь страну в бездну.
«Ни один здравомыслящий русский не думает о завоевании Турции и о присоединении себе Константинополя. Такое расширение было бы не усилением, а ослаблением России. Центр тяжести перенесся бы с севера на юг в нерусские земли. Через это владычествующая народность потеряла бы свою особенность и неизбежно получила бы второстепенное место. Россия превратилась бы в нечто подобное древней Римской империи, которая, безмерно расширив свои пределы, пала от внутреннего расслабления. Если Россия должна оставаться Россией, она не может сойти со своего места и стать у Средиземного моря». Император Александр II начертал на полях в этом месте: «Совершенно справедливо».
Что же касается «единого славянства» под эгидой России, то опытный мидовец полон откровенного скептицизма.
«Столь же мало желательно и образование подвластных России государств на Балканском полуострове». Ибо отношение к «старшему брату», даже единоверному, не вечно будет благодарным. Вассальные отношения (а способна ли большая страна на иные с маленькими и защищаемыми ею?) ненадежны и противоречивы. «В подданных они возбуждают неудовольствия, в соседях соперничество, а от господина они требуют постоянного напряжения сил, которому не соответствуют полученные выгоды». При этом дальновидно добавляется, что вассальные отношения в Европе должны замениться свободным торговым и экономическим сотрудничеством. С этой точки зрения «унизительный» мир по Берлинскому трактату есть реальность, выводящая Россию из тупика.
«Государственные люди, заключившие Берлинский трактат, несомненно, потеряли в России популярность, но они имеют право на благодарность русского человека, который трезво смотрит на вещи и ищет в политике не покупаемых потоками крови филантропических мечтаний, а действительно достижимых целей при возможно меньшем кровопролитии».
Горчакову исполнилось 80 лет, оставалось четыре года до формального конца министерской службы и пять - до смерти (27 февраля 1883 г.) в Баден-Бадене, с последующим захоронением в Сергиевой Приморской пустыни под Петербургом. С чего он начал после Крымской войны, тем и закончил после Балканской. Только уже не от императорского, а от своего собственного, опытного политика и дипломата, имени. Распад социалистического лагеря и самого Советского Союза, по существу, и произошел по этому сценарию, назовем его «антигорчаковским». Геополитические интересы, расширенные далеко за географические пределы своего государства, растворение «руководящего» народа в этносах Центральной Азии и потеря там влияния, раздражение «вассалов» по соцлагерю - эти процессы еще в конце ХIХ века оказались исторически обоснованы А.М.Горчаковым. В этом и заключалось его «честное служение» - власти, стране, своим принципам.
1Русская старина. 1883. Октябрь.
2Архив внешней политики Российской империи (АВПРИ). Канцелярия 1830 г. Д. 67. Л. 18.
3Московские ведомости. 1867. №132.
4Жомини А. Россия и Европа в эпоху Крымской войны. СПб., 1886. Т. V. С. 675-676.
5Бушуев С.К. А.М.Горчаков. Из истории русской дипломатии. Т. I. М., 1944. С. 131.
6АВПРИ. Канцелярия 1856 г. Д. 42.
7Нольде Б.Э. Петербургская миссия Бисмарка. 1859-1862. Прага: Пламя, 1925. С. 49.
8Никитенко А. Дневник // Русская старина. 1890. С. 141-142.
9Татищев С.С. Император Александр II, его жизнь и царствование. СПб.: Изд. А.С.Суворина, 1903. Т. I. С. 478.
10Нарочницкая Л.И. Россия и войны Пруссии в 60-х годах ХIХ в. за объединение Германии «сверху». М., 1960. С. 120.
11АВПРИ. Канцелярия 1870 г. Д. 26. Л. 24-26.
12Достоевский Ф.М. ПСС. Л.: Наука, 1986. Т. 29-1. С. 382.