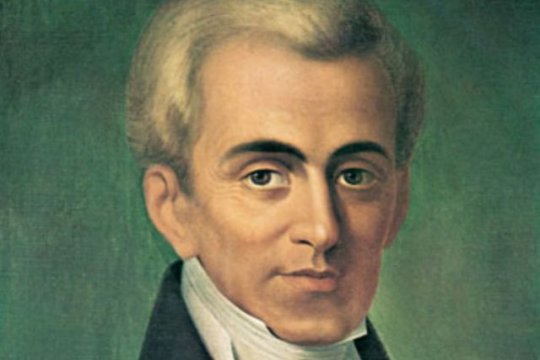Чем ближе была Победа, тем большими были надежда и желание выжить, больнее и обиднее потери товарищей и друзей, страшнее возможность собственной гибели и тем труднее было подниматься в атаку под огонь яростно сопротивлявшегося врага. Людям, прошедшим через всю войну, через все опасности и испытания, в самые последние ее дни требовалось особое мужество - впереди был мир, за который они воевали, ради которого стольким пожертвовали, столько перенесли. И так хотелось жить в этом мире, в котором не будет войны...
«Нас, разведчиков, всегда такими бесстрашными представляют, - говорил участник штурма Берлина Герой Советского Союза Василий Быстров. - Но все мы люди. Всем жизнь один раз дается. И все мы смерти страшимся. До озноба. Сколько раз тебе на огонь идти, столько раз надо побороть, задушить в себе страх смерти. А если это твой последний бой, если завтра войне конец - тут и говорить нечего...»1
И вопреки всему поднимался в атаку советский воин, и шел под смертельный огонь, и падал, сраженный пулей или осколком, за месяц, за неделю, за день, за час до Победы, и жизнью и смертью своей утверждая верность Родине и воинскому долгу. Поднимались в атаку, как старший лейтенант Борис Кровицкий, который прошел с боями всю войну и погиб 30 апреля 1945 года в Берлине. В своем последнем письме он писал: «Фронт живет одним - быстрым окончанием войны, победой. Говорим о скорой встрече с мамами, невестами, родным домом. Особенно обостренно чувствуешь сейчас цену жизни. Так хочется жить, столько впереди прекрасного, и прежде всего, родная мама, встреча с тобой. Ты только не подумай, что мы теперь, когда победа близка, расслабились, нет. Неумолимость воинского долга, жесткая дисциплина - все это в нас. А главное - понимание, что за тебя никто фашистов не доколотит».
Какие же эпизоды штурма Берлина запомнились его участникам?
Во-первых, буквально все отмечают, что последние три недели войны вместили в себя невероятное напряжение и ожесточенность боевых действий. Безвозвратные потери советских войск в ходе Берлинской стратегической наступательной операции составили
78,3 тыс. человек, санитарные - 274,2 тыс. человек6. «Немцы оборонялись жестоко, - рассказывал полный кавалер ордена Славы Константин Мамедов. - Во всяком случае, я на своем личном опыте могу сказать, так же, как и все мы, солдаты нашей дивизии, что, по-моему, эта жестокость боев с приближением к Берлину только нарастала. И нарастала непрерывно. Сопротивление было просто отчаянное...».
Фронтовик И.Д.Перфильев, вспоминая о боях за Берлин, говорил: «Бились за каждый коридор, каждую комнату... Гитлеровцы превращали обычно дом в крепость, которую приходилось штурмовать. И помню, во время одного из таких штурмов, когда бoй грохотал вверху, на этажах, мне и еще нескольким солдатам нашего батальона пришлось в кромешной тьме, почти вплавь, вытаскивать немецких детишек, женщин, стариков из затопленного фашистами подвального помещения. Там бой, а мы детишек спасаем. Не могли мы, советские люди, смотреть на гибель детей... Чужих детей, стариков, женщин. Уж так воспитаны мы…».
Показательно, что в то самое время, когда советские воины спасали немецких детей, доживающие последние часы руководители Третьего рейха бросили под пули тысячи немецких подростков. «Из Тиргартена вдоль Колоненштрассе двигались квадраты юнцов, - вспоминал бывший замполит стрелкового полка И.Падерин. - Четыре квадрата. В каждом до сотни. Все в школьных черных кителях, с ранцами. На плечах фаустпатроны. Они спешили в засады против наших танков. Что с ними делать? У наших пулеметчиков и артиллеристов просто не поднималась рука открыть огонь по этим юнцам... Решили обезоружить их. Пустили в ход дымовые шашки. Поднялась плотная дымовая завеса. Юнцы заметались. Падавшие навзничь взрывались: в ранцах вместо книг они несли тротил со взрывателями. Остальные повернули обратно. Гитлер бросил их против наших танков. Живые мины не сработали. Мы избавили их от верной гибели. Многие из них сегодня, наверное, живы и не могут не помнить об этом...»10 О подобной «психической» атаке рассказал другой участник штурма Берлина В.Гельфанд: «Под барабанный бой, строевым шагом, с автоматами и примкнутыми штыками приближался женский батальон: девушки лет по 16-18. «Мстительницы». Видимо, один из последних резервов врага. Сзади, метрах в двухстах-трехстах - группа офицеров СС с ручными пулеметами, направленными им в спины. Так сказать, для «подстраховки». Наши бойцы, только что стойко отразившие натиск «тигров», глядят тревожно, с недоумением. Такого еще не было! Куда вы, одурманенные? Они идут на нас с оружием и вот-вот пустят его в ход. Но не воюет советский солдат с женщинами! Наше командование немедленно вызвало огонь артиллерии и «катюш» по офицерам. Один точный залп - и весь их отряд был сметен. Рыдая, с остановившимися от ужаса глазами «мстительницы» легли на землю. Их батальон избег уничтожения и был взят в плен». Это уже не мирное население, а вооруженный противник, но и здесь советские воины сделали все возможное, чтобы избежать лишнего кровопролития, спасти обреченных на смерть немецких мальчишек и девчонок.
Старший лейтенант Н. Александровский вспоминал: «Осмотревшись, мы решили подойти к единственному входу, который нам был виден. Оставалось только пересечь небольшую кучу кирпича.
Я пригнулся, помогая себе одной рукой, другой поддерживая автомат, и не сводил глаз с входа в дом. Кирпич сорвался у меня из-под ноги, и я на минуту выпустил из виду объект наблюдения. А когда взглянул – увидел, что у входа стоит немец.
Только я схватился за рукоятку затвора, как немец исчез – словно растворился в темноватом квадрате входа. Я хорошо его запомнил. Он был в синей шинели, сильно запылённой, – видимо, попал под обвал. На его маленькой голове была высокая синяя фуражка с белой кокардой. Из-под фуражки торчал острый нос, придавая что-то крысиное его лицу. Это был офицер. Значит, там есть еще кто-нибудь.
– Бегом за мной! – скомандовал я, подбежал к входу, бросил туда гранату и последовал за нею. От взрыва поднялась густая пыль, и я, вскочив на площадку, чуть не кубарем покатился вниз по лесенке. Поднявшись на ноги, я увидел рядом своих молодцов; они попали сюда таким же порядком – и впереди всех старший сержант Григорий Иванович Костыря, молодой донбассовец.
Мы наскоро осмотрелись. Оказалось, что попали на небольшой двор-колодец, плотно окружённый тремя корпусами дома. Я приказал в подвалы не ходить, а осмотреть квартиры. Люди разошлись.
В этот момент пуля свистнула у меня над головой и ударилась в стену. Я укрылся в какой-то комнате. Подумал, где могут быть фрицы и откуда они в меня стреляли.
Вернулись бойцы и сообщили, что в квартирах нет никого, но в подвале слышен топот кованых сапог. Вход в подвал простреливал снайпер через арку, он же стрелял в меня. Не прошло и пяти минут, как уже три снайпера простреливали двор через арку. Они ранили сержанта Полтавца и старшего сержанта Алексеева.
Я поручил немецких снайперов ефрейтору Романенко. Он взял два фаустпатрона, забрался на третий этаж. Раздались два выстрела, и взрывы двух фаустпатронов слились в один продолжительный. В ту же минуту я забросал подвал гранатами. И вот из пыли вырисовывается знакомая фигура немца-крысы. Вслед, один за другим, вышли девять немцев и бросили к нашим ногам своё вооружение, довольно сильное: фаустпатроны, противотанковые гранаты, пистолеты, карабины и автоматы.
Мы не спрашивали их, зачем они остались в подвале, отправили в штаб батальона и доложили, что задание выполнено, квартал проверен надёжно».
Битва за Берлин стала последним большим сражением, разыгравшимся на советско-германском фронте. Наступление советских войск началось 16 апреля. В результате их могучего удара уже через два дня были прорваны все три оборонительные полосы немецкой обороны, прикрывавшие Берлин. 21 апреля бои завязались в пригородах, а 23 апреля сражение разгорелось на улицах немецкой столицы. Одновременно с развитием боев в Берлине советские войска к 25 апреля завершили его окружение. Ломая упорное сопротивление врага, 30 апреля советские воины штурмом взяли Рейхстаг и водрузили над ним знамя Победы.
Спустя десятилетия Константин Симонов скажет о цене Победы: «Да, счета не было - ни дорогам, ни ранам, ни смертям, и Победа была концом пути многих смертных людей, четыре года сменявших друг друга, выбывавших из строя, возвращавшихся, погибших. Но война соединила все их судьбы в одну судьбу бессмертного солдата, который все-таки дошел до Победы».
По материалам журнала «Международная жизнь» и открытых источников
Читайте другие материалы журнала «Международная жизнь» на нашем канале Яндекс.Дзен.
Подписывайтесь на наш Telegram – канал: https://t.me/interaffairs

 12:30 25.04.2025 •
12:30 25.04.2025 •