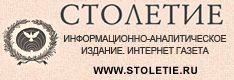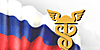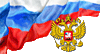В один из зимних вечеров две тысячи какого-то года, разбирая старые семейные архивы, наткнулся на сохранившиеся с военной поры несколько полуистлевших газет, в которых под заголовками «От Советского информбюро» сообщалось о разгроме фашистских захватчиков в битве на Курской дуге и об «особо отличившихся» в этом сражении воинских соединениях Советской армии. Называлась среди них и дивизия, которой командовал брат моей жены, мой шурин.
Газеты эти мы с женой читали и перечитывали в свое время довольно часто, и многое из того, что касалось нашего дорогого родственника, я знал почти наизусть. Но теперь, по прошествии 70 лет, все это уже практически выветрилось из моей памяти, и сама битва на Курской дуге помнится мне лишь как одно из исторических событий той суровой военной поры, не больше. А что же тогда говорить о детях и внуках наших - они, может, и совсем ничего не знают об этом событии. И это навело меня на грустные размышления. Но об этом потом, а сейчас хотелось бы продолжить раскопки в архиве.
Вот перевязанная красной ленточкой пачка писем моих шуринов, старших братьев жены, Евгения и Николая Ушаковых, написанных ими в разные годы с фронтов Великой Отечественной войны. Оба они, выходцы из большой сибирской семьи, сразу же после вероломного нападения на нашу страну фашистской Германии оказались на передовых позициях, так как почти всю свою взрослую жизнь были кадровыми военными. И участвовали в войне не в штабах или обозе, а на передовых позициях, в боях. И чудом оба уцелели, вернулись с войны хотя и искалеченными, но живыми.
Старший, Евгений, ушел на войну в звании майора, а вернулся генерал-майором, награжденным многими боевыми орденами, был неоднократно ранен. А младший, Николай, ушел капитаном, воевал в самых горячих точках, в том числе под Сталинградом и на Курской дуге, где ему оторвало правую руку почти по плечо. Пролежав несколько месяцев в госпитале, он снова вернулся в строй и до конца войны командовал специальным дивизионом легендарных «катюш», дошел до Берлина. Его дивизион осаждал столицу фашистского рейха и одним из первых ворвался в нее. За проявленный в ходе боевых действий героизм полковнику Николаю Ушакову было присвоено звание Героя Советского Союза. Он был награжден многими другими боевыми орденами.
И после войны братья Ушаковы долго еще оставались в армии, правда, теперь уже на административных должностях: Евгений - начальником военного училища в Прибалтике, а Николай - начальником военных вспомогательных баз сначала на Украине, а затем в России и Татарстане. В этот период Николай стал, как и его старший брат, генерал-майором.
И что было характерным для братьев-героев - это их предельная скромность: не помню случая, чтобы кто-то из них хвастался, даже в кругу родных или близких, своим героизмом, заслугами перед Отечеством или наградами. Нет, ничего похожего на это, хотя оба любили рассказывать о разных событиях военного времени и сложных ситуациях, в которых часто оказывались. Но рассказывали они об этом, как о чем-то вполне обычном и естественном для солдат того времени, не приукрашивая и не драматизируя - война есть война, в ней драмы и трагедии соседствуют с обыденностью на каждом шагу.
Ушли братья из жизни еще относительно молодыми, видимо, раны и перенесенные за время войны стрессы подорвали их здоровье. Николай умер, едва перевалив за 60, а Евгений и того моложе - на 52-м году. Но до последних своих дней оба были такими весельчаками, жизнелюбами и оптимистами, что молодые искренне и по-доброму завидовали им в этом. Такими они сохранились и в памяти тех, кто знал их при жизни.
Развязав обнаруженную мной историческую пачку, я начал не торопясь перебирать и просматривать хранившиеся в ней полуистлевшие конверты, а то и просто «треугольнички» - конверты-то не всегда оказывались под рукой, - написанные наспех карандашом где-нибудь на коротком привале. Сначала делал это как бы механически, не задумываясь о том, какие бесценные реликвии находятся в моих руках. Но потом меня вдруг осенило: да ведь это же письма, можно сказать, с того света, так как люди, оказавшиеся в первые дни войны лицом к лицу с оснащенным до зубов самой современной военной техникой опытным врагом, подмявшим под себя почти всю Европу, шли практически на верную смерть.
Ведь теперь-то мы знаем, в каком невыгодном положении оказалась наша армия в первые дни войны - и в смысле командного состава, значительно ослабленного репрессиями, и в результате внезапности нападения, что имело, пожалуй, решающее значение, так как позволило врагу в течение первых часов войны уничтожить огромное количество наших боевых самолетов и другой военной техники на западных рубежах страны. Да и с вооружением, похоже, не все оказалось на такой высоте, какая требовалась в войне того времени. Поначалу нашим воинам пришлось сражаться в основном с неизменной трехлинейной винтовкой образца 1891 года, модернизированной в 1930 году, пулеметом и артиллерией, именуемой солдатами «богом войны». Ну и танки, конечно, - танков у нас было много, и не плохих, - но в начале войны их вряд ли можно было считать такими уж неуязвимыми для совершенной техники врага…
А с автоматическим оружием дело обстояло совсем плохо, хотя казалось, что недавно закончившаяся война с маленькой Финляндией должна была бы научить наших военачальников, что без такого оружия в современной войне ну никак не обойтись.
Короче говоря, военное оснащение столкнувшихся в смертельной схватке противников на первых порах было, мягко говоря, не совсем адекватным. Зато были у нашей армии такие, можно сказать, экзотические виды оружия, до каких наши противники вряд ли могли додуматься. Чего стоил один только «коктейль Молотова», как прозвали немцы наполненную горючей смесью бутылку, которую надо было изловчиться разбить о несущийся на тебя вражеский танк, да при том еще и самому уцелеть!
Или взять те же «надолбы» - сваренные из швеллеров «ежи», диаметром больше метра, которые надо было расставлять на наиболее вероятных путях наступления вражеской техники, чтобы затруднять ее продвижение. А еще маленькие «ежики» такой же, примерно, конструкции, сваренные из прутьев диаметром от пяти до десяти миллиметров, для разбрасывания их с самолетов по дорогам, чтобы они, эти «ежики», прокалывали шины колесной техники врага и выпускали из них воздух. Одного только не учли наши стратеги небольшого «пустячка»: резиновые шины у этих шелудивых фрицев были, как правило, самозатягивающимися, и для них такой «ежик» был не страшнее комара.
Но в чем наша армия, безусловно, превосходила вражескую, так это в героизме наших солдат и их непосредственных командиров. И в их непритязательности ко всякого рода удобствам: они готовы были вести войну в любых условиях, которые для немцев были просто невыносимыми. Не зря же говорилось тогда в народе: что для русского хорошо, для немца - смерть.
И еще - непоколебимая вера в победу. В этом, казалось, никто из наших защитников не сомневался, по крайней мере на словах. И в письмах, которые я просматривал, также ничего, похожего на сомнения на этот счет, нельзя было заметить. Что это было - тупость, надежда на какое-то чудо или основанная на глубоком анализе уверенность? А может, всего лишь естественное желание как-то подбодрить себя, подавить парализующий волю страх перед смертью? Мне захотелось разобраться в этом. И я снова начал перечитывать письма братьев Ушаковых, которые знал как свои пять пальцев.
Читал и, будто через лупу, придирчиво всматривался в каждую фразу, казавшуюся мне в чем-то не совсем естественной. И ничего не находил, кроме уверенности авторов в себе, своем народе, его духовной силе и неистребимой живучести. Вот несколько выдержек из писем генерал-майора Евгения Ушакова.
«Ты, Митя, присмотри где-нибудь недалеко от Москвы поприличней участок, на котором можно будет после войны построить большой рубленый дом на две семьи. И обязательно рядом с водоемом, где можно было бы порыбачить». Это он давал указания мне (я работал тогда на одном из подмосковных военных заводов), поскольку мы с ним еще до войны мечтали о таком доме. И дальше, с уверенностью: «Вот разгромим фрица, вернусь и сразу же приступим к строительству». И даже чертежик будущего дома набросал на вырванном из тетрадки листе. А в другом письме благодарит Бога за крепкие морозы. «Оно хоть и холодно, но терпеть можно, зато для фрица это непереносимо, он сразу же цепенеет».
И младший брат не уступал старшему. Николай Ушаков писал из-под Берлина, где он со своим дивизионом «катюш» окопался в выжидании момента, когда можно будет начать решительную атаку на цитадель фашизма. «Вот уже третий день не вылазим из траншей, голову высунуть нельзя - сплошной огонь со стороны Берлина. Но, похоже, выдыхаются, уже не тот напор, все чаще появляются паузы. В одну из таких пауз мы и рванем в «наш последний и решительный бой». И ни тени сомнения в победе - ни в словах, ни в тоне всего письма.
Они, эти фронтовые «треугольнички», были написаны таким простым и бесхитростным языком, что усомниться в их правдивости было просто невозможно. Скажу больше: то, что писали в них наши фронтовики, наверняка вдохновляло и тех, кто не участвовал непосредственно в боевых действиях, а лишь помогал нашим воинам в их самоотверженной борьбе своим трудом у станков и мартеновских печей. Солдатские «треугольнички» вселяли в наш народ уверенность в неизбежность победы, в то, что она обязательно придет.
И она, долгожданная победа, наконец пришла. Вернее, ее принесли на своих плечах наши герои вместе со стягами поверженного врага. Какие герои, какие чудо-богатыри! Так и хотелось преклонить перед ними колени, поблагодарить за все, что они сделали для нашей страны, нашего народа, нас с вами. Не говоря уже о том, чтó означала их победа над фашистской Германией для всего мира, для человечества.
Тогда это понимали все и надлежащим образом ценили заслуги Советского Союза и его героических вооруженных сил, воздавали им должное. Но проходили годы, раны, нанесенные Второй мировой войной, затянулись, и память о наших героях заметно потускнела, а кое у кого и совсем стерлась. Да и о самой войне стали вспоминать как об одном из исторических событий, пусть даже и значительных, но... давно прошедших. И хотя это событие, потрясшее весь мир, отмечается у нас ежегодно, воздаются почести павшим воинам, - делается это, скорее, как проведение обязательного и привычного «мероприятия». И героев наших вспоминаем уже в общей массе, в которой трудно разглядеть отдельные лица с их характерными чертами и особенностями. Они сохраняются лишь в памяти и сердцах их родных и близких, если они еще живы. Стало быть, пока...
А пройдут еще годы, уйдут из жизни те, кто лично знал хотя бы одного из наших героев, для кого он был самым родным и близким человеком, - я уж не говорю о других, - память о них может и совсем исчезнуть, развеяться как дым. И напоминать о них, уже безликих, будут лишь братские могилы с незамысловатыми монументами, да могилы неизвестного солдата, если, разумеется, и эти скромные памятники не будут разрушены сегодняшними вандалами, любителями кощунственных развлечений. А жаль, не хочется мириться с такой возможностью.
Слов нет, в нашей стране много сооружено различных мемориалов и комплексов в местах наиболее жестоких и кровавых сражений, а также поставлено отдельных памятников выдающимся военачальникам и полководцам. А вот для того чтобы увековечить память о рядовом солдате или командире среднего звена, кто принял на свою грудь основной удар войны, сделано, мягко говоря, недостаточно, если не считать памятников неоднократным героям Советского Союза, а также таким, как Александр Матросов, закрывший своей грудью амбразуру вражеского дзота, или собирательным, как Василий Теркин.
Память же об «остальных», а их миллионы, оказалась втиснутой в коллективные мемориалы, братские могилы, а то и в рассеянные по всей огромной стране могилы неизвестного солдата. А еще хуже - в списки «пропавших без вести»... Это уж совсем выглядит как предательство. Как же так, был человек, воевал вместе с другими и, может, даже чем-то отличился, и вдруг не осталось от него никакого следа - «пропал без вести»? О каком же увековечивании памяти о них можно говорить? И не говорят, многозначительно помалкивая: а может, он и в самом деле в плен сдался или того хуже - перешел на сторону врага? Пусть уж лучше числится в «пропавших без вести», так проще.
Это ужасно и неправомерно, несовместимо с понятием о чести и человеческом достоинстве, человеческой совести. Ведь помним же мы о легендарных богатырях Илье Муромце, Добрыне Никитиче, Алеше Поповиче, наверняка не испытавших и сотой доли тех страданий, какие выпали на долю солдат Великой Отечественной войны, так почему же память о них, этих «остальных», должна бесследно кануть в Лету? Чем они, эти реальные герои, хуже тех, легендарных?
Вот с такими невеселыми мыслями и застал меня естественный вопрос: а что конкретно нужно и можно было бы сделать для того, чтобы солдаты Великой Отечественной войны - и вернувшиеся живыми, и те, что остались на полях сражений, - сохранились в памяти людской надолго, чтобы помнили о них не хуже, чем о тех сказочных богатырях?
Не берусь давать исчерпывающие рекомендации по этому сложному вопросу, мне такое не под силу, это должно быть плодом совместных коллективных усилий многих людей, в том числе тех, кто был свидетелем или непосредственным участником событий военной поры. Одно представляется мне совершенно бесспорным: первостепенную роль в этом должны играть наша художественная литература и средства массовой информации. И эта роль должна быть не разовой, а постоянной, никакой кампанейщины допускать тут нельзя.
И конечно же, эти вопросы должны занимать надлежащее место в школьных программах и учебниках: кто же еще, если не дети, в состоянии лучше всего запомнить и надолго сохранить в памяти людской то, что связано с героическим прошлым нашего народа. Сохранить надолго, если можно, в веках, - это наш священный долг, долг всех россиян перед ними, теперь уж почти легендарными героями.
Дьявольское наваждение
Страх нападает на человека по-разному. И следы от этого нападения не всегда одинаковы. В одном случае он подкрадывается к человеку незаметно, как хищник к своей добыче, вызывая у нее еще неосознанные, но все усиливающиеся неприятные ощущения. И затем, так же постепенно, уходит, часто не оставляя после себя никакого следа - вроде небольшого прилива и отлива. Но бывает, что, нарастая постепенно, страх начинает подавать какие-то сигналы в мозг человека, будто предупреждая о подступающей опасности. Потом ни с того ни с сего начинают «дрожать колени», одолевает непонятное беспокойство, и человек старается разобраться, в чем дело. Борьба с таким страхом длится иногда очень долго, в нее включается не только мозг, но и душа человека.
Но случается, что страх обрушивается на человека, как лавина, внезапно, заполняя все его поры, и он оказывается совсем беспомощным, парализованным, вроде кролика перед разверзнутой пастью удава. Такой страх не проходит бесследно, от него остаются не только следы в памяти, но и глубокие рубцы на сердце. Нечто подобное случилось и со мной однажды.
Было это в Берлине в 1945 году, в самом начале первого послевоенного лета. В Берлине я оказался как один из участников большой группы советских специалистов, направленных туда Центральным комитетом партии со специальным заданием сразу же после окончания Великой Отечественной войны. Нам предстояло «прочесать», или, помягче, просмотреть, ту часть поверженной фашистской Германии, которая была занята советскими войсками, но в соответствии с достигнутыми соглашениями держав-победительниц должна была отойти к США, Англии и Франции.
В группу входили представители Академии наук СССР, различных наркоматов и учебных заведений. Я был от Наркомата вооружения, где тогда работал.
Хотя война в Европе уже закончилась, однако обстановка там оставалась все еще не совсем похожей на мирную, особенно в Германии. Так что появляться там в те дни в «цивильном» виде было бы просто неприлично, не говоря уже о том, что с нами никто бы не считался и проверяли бы на каждом шагу. Поэтому всех нас временно превратили в офицеров с соответствующими воинскими званиями. Обрядили в защитного цвета полевую форму, обули в хромовые сапоги и выдали, для завершения образа, по боевому пистолету. Ну и погоны, разумеется, - к этому времени они были уже введены в нашей армии. Все сразу преобразились. В результате и я оказался подполковником, хотя в армии никогда не служил и по воинскому билету числился «рядовым не обученным». Тем не менее военная форма сидела на мне довольно складно, я даже сам себе понравился, не говоря уже о моих домочадцах, перед которыми я вскоре предстал в таком необычном и грозном виде.
Не обошлось и без курьезов. Например, на академике Звонареве, старом, небольшого росточка человеке в пенсне с толстенными стеклами, полковничий костюм сидел как казачье седло на корове и делал его не столько грозным, сколько смешным, похожим на вытащенного из воды на берег окуня. Он и сам, взглянув на себя в зеркало, расхохотался до слез и сказал: «Пойду, напугаю свою старуху».
А уже на следующий день вся наша группа «цивильных» офицеров оказалась в логове еще недавнего нашего врага, в Берлине, в распоряжении советского военного командования. Там нас проинструктировали обо всем, что считалось необходимым, снабдили введенными после капитуляции Германии новыми местными деньгами и отправили по квартирам. В числе других десяти или двенадцати человек я оказался в довольно красивом, благоустроенном и почему-то почти незатронутом бомбежками поселке Нойен-Хагене, километрах в 15 от Берлина.
Это был мой первый выезд за границу. Да ни в какую-либо страну, а сразу в Германию, в столицу совсем еще недавно такого непримиримого и страшного противника. Так что мне было чему удивляться и над чем задумываться. Да разве только мне: уверен, что большинство из моих коллег по группе были в таком же положении и испытывали примерно то же самое.
Каждое утро мы уезжали на работу в Берлин на оборудованном сидениями американском грузовике, занимались там своими делами, а часов в пять вечера этим же транспортом возвращались в Нойен-Хаген. В течение дня мы тщательно осматривали намеченные нами заранее предприятия и учреждения и, если находили там что-либо интересное для нашей экономики, давали указание закрепленной за нами воинской части вывозить это в тот сектор Берлина, который останется под контролем Советского Союза. Занятие это захватывало нас не столько ощущением чувства ответственности за порученное нам важное дело, сколько новизной того, что довелось нам тогда увидеть. А нового, необычного для нас было так много - просто глаза разбегались! А еще больше - воображаемого: то, что мы видели, позволяло нам воссоздать картину последних дней агонизирующего рейха, иной раз до мельчайших подробностей.
Вот лазим мы по подвалам и чердакам, находим там еще свежие следы прятавшихся фашистов, их лежбища, остатки пищи, оружие. Иногда натыкались на сложенные штабелями какие-то непонятные изделия в виде небольших цилиндриков, оказавшихся, как потом выяснялось, изобретенным уже в конце войны (опоздали!) весьма эффективным оружием большой убойной силы - фаустпатронами. И что удивительно - все сходило нам с рук. Казалось бы, что мешало задержавшемуся где-то в подвале или на чердаке фанатику пройтись по непрошенным гостям пулеметной очередью. Да он мог и не знать, что фашистские лидеры подписали акт о безоговорочной капитуляции. Или тот же фаустпатрон запросто мог бы взорваться в руках любого из нас, бесцеремонно рассматривавшего новинку. Но вот обошлось, как говорится, бог миловал. И вроде особого страха от этой постоянно висевшей над нами угрозы никто из нас не испытывал. Сгоряча, конечно, потом-то задумывались, и по телу пробегали запоздалые мурашки.
Однажды после работы, когда все собрались возвращаться в Нойен-Хаген, я сказал нашему старшому, что хочу задержаться в Берлине, чтобы заказать в аптеке очки с цейсовскими стеклами, о которых я был наслышан. Обещал вернуться в Нойен-Хаген через полтора-два часа на какой-либо попутке - тогда это труда не составляло, особенно для людей, одетых в военную форму, да еще офицерскую.
Несмотря на то что Берлин был сильно разрушен бомбежками - по крайней мере на две трети, - в обнаруженной мною в развалинах небольшой аптечке заказ на очки от меня с готовностью приняли и обещали выполнить его на следующий день. Меня это так поразило, что я вынужден был переспросить, думал, неправильно понял - разговаривал я на каком-то смешанном, англо-немецком наречии, так как ни того ни другого языка толком не знал. Не знакомы мне были и капиталистические порядки с частным предпринимательством. Так что удивляться было чему.
А поскольку с этим делом я управился довольно быстро, то решил использовать сэкономленное время для того, чтобы побродить по разрушенному городу, посмотреть повнимательней на незнакомую мне заграничную жизнь хотя бы в ее развалинах. Прошел сначала несколько кварталов по главной улице города, Унтер-ден-Линден, а затем стал углубляться в сторону от нее, где, как мне казалось, должны были обитать люди среднего класса, не самые крутые. Но старался не уходить далеко от шоссе, ведущего к Нойен-Хагену, чтобы не заблудиться, ориентировался на него. И ко всему внимательно присматривался, как исследователь, замечал каждую пустяковину, впитывал в себя все, как губка влагу - интересно было! К этому примешивалось и ощущение какого-то не то геройства, не то гордости за то, что-де вот ведь я какой - один-одинешенек в стане вчерашнего врага, в чужом городе, среди незнакомых мне людей, и ничего. Ай да я, ай да молодец!
При этом сами по себе возникали одна за другой разные картины из чужой жизни, чужого быта, вплоть до мелочей. И так я увлекся этим занятием, что даже не заметил, как далеко ушел. А ушел я, видимо-таки, далеко от центра, оказавшись на каком-то пустыре с редкими небольшими домами, огороженными повалившимися деревянными заборами, а то и совсем без заборов. И людей кругом почему-то было на удивление мало, хотя комендантский час еще не наступил.
Забеспокоился, как бы не сбиться с пути, и впервые почувствовал какой-то необъяснимый холодок внутри. Надо срочно возвращаться к своему спасительному шоссе, подумалось мне, и я стал забирать вправо, где, как мне казалось, разминуться с ним было невозможно.
А пустырь все продолжался, и беспокойство мое усиливалось. Попадавшиеся мне на пути предметы уже не вызывали у меня такого интереса, как прежде, хотя тоже были мне в новинку. Я даже перестал обращать на них внимание.
И вдруг прямо передо мной, на обочине дороги, по которой я шел, - огромная пушка, то ли подбитая, то ли брошенная за ненадобностью. И ствол ее, как хобот слона, вытянулся устрашающе в мою сторону, того и гляди - пальнет. Возникший сразу испуг перед пушкой был настолько велик, что я просто остолбенел. Казалось бы, чего тут бояться, ведь она же наверняка не будет стрелять. Да к тому же вряд ли заряжена, а может даже и неисправна, без затвора. А напугала так, что этого испуга хватило бы на десять других страшилок! Какая-то психическая гипертрофия или дьявольское наваждение. И исходило оно, похоже, от меня самого. Несколько успокаивало только то, что вся пушка, начиная от дальнего конца лафета и кончая стволом, была усеяна, как мухами, игравшими на ней детишками.
Вот с нее, с этой пушки, все и началось. Мне стало вдруг казаться, что отовсюду по пути моего следования за мной с любопытством наблюдают притаившиеся где-то люди. И не просто люди, а враждебно настроенные ко мне: чего ему надо в наших краях, этому пришельцу в незнакомой военной форме, что он тут выискивает? И каждый из них мог запросто послать мне пулю вдогонку, а то и выйти на дорогу, выстрелить прямо в упор. И ничего бы ему за это не было: он имел на это моральное право, ведь у каждого из них кто-либо из родных не вернулся с Восточного фронта, русские убили его. Это была единственная возможность хоть чем-то отомстить врагу, наказать его за свои утраты. И этой возможностью был я, оказавшийся по своей глупости в их полном распоряжении, - почему же не воспользоваться ею? Я был уверен, что они не упустят такой шанс и обязательно сведут на мне счеты за все, даже за то, в чем они были сами виноваты. И только удивлялся, почему же они медлят с этим: неужели чтобы вдоволь насладиться моими страданиями, как кошка перед тем, как съесть мышь?
От этих мыслей мне становилось все страшнее и страшнее. Я даже физически ощущал, как страх со всех сторон вползает в меня, впивается, заполняя все поры моего существа. Страх парализовал меня так, что я только и мечтал о том - скорей бы это свершилось! Мое тогдашнее состояние, вероятно, можно было бы сравнить с переживаниями приговоренного к смертной казни человека, ожидающего своего часа в одиночной камере.
Сама по себе смерть меня не пугала, я уже вроде смирился с этим как с неизбежностью. Но почему же так по-глупому получилось, вдали от своих, где меня и искать-то, вероятно, не станут - кому же придет в голову, что я мог совершить такой неразумный поступок? Лучше уж было бы взорваться от неосторожного обращения с фаустпатроном, но на глазах у своих, мелькнуло в моей затуманенной голове.
От охватившего меня страха я как-то обмяк, и ноги сделались будто ватными, перестали слушаться. А вожделенное шоссе все не показывалось. Мне уже подумалось, что я иду не в ту сторону - да не все ли теперь равно! В такие моменты меня даже подмывало выхватить из болтавшейся на поясе кобуры пистолет и начать палить из него во все стороны, пока не кончатся патроны, чтобы отпугнуть окружавших меня невидимых врагов. Но помутнение разума зашло, видимо, не так далеко, я все еще был в состоянии сообразить, что это подлило бы масла в огонь, еще больше разозлило бы их. Не стал стрелять.
И вдруг - о боже ж ты мой! - долгожданное шоссе, которое я сразу же признал по примелькавшимся мне раньше сооружениям на его обочинах. А я уже утратил надежду на встречу с ним! Казалось бы, надо было выскочить на шоссе с криками «ура» и, подняв обе руки, остановить первую из проезжавших по нему машин, чтобы поскорее убраться от этого дьявольского наваждения!
Но я не стал этого делать, не захотел показываться на людях в таком беспомощно-позорном для военного человека виде. А вид у меня - я чувствовал это всем своим существом - был ужасный, напоминавший, наверное, выжатый лимон или чехол от самого себя. И каждый наверняка стал бы расспрашивать, что случилось. А мне не хотелось ни с кем разговаривать. Я уселся на первый попавшийся на глаза камень на обочине шоссе, чтобы прийти в себя, успокоиться и подождать, пока весь накопившийся во мне за последние полчаса страх не улетучится.
Останавливавшимся возле меня автомашинам, чтобы подхватить ожидавшего офицера, молча давал отмашку, дескать, жду свою.
Никогда в последующей жизни я такого страха не испытывал. Но и рассказывать об этом никому не решался: то ли стыдно было, то ли не хотел воскрешать в памяти и сердце весь ужас пережитого тогда мною на пустыре, рядом с Берлином, не знаю.