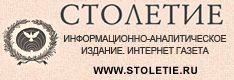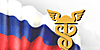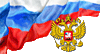Так получилось, что мне пришлось защищать дипломный проект об окончании МВТУ имени Н.Э.Баумана 22 июня 1941 года, то есть в день нападения на СССР гитлеровской Германии. И поэтому защита во многом носила необычный характер. В отличие от той торжественности, в какой защита дипломных проектов проводилась всегда, когда в актовом зале института собирались не только те, кто имел к ней какое-то отношение, но и просто любопытные, в этот раз ничего похожего не было. Делалось все наспех и, конечно, без всякой торжественности.
А на следующий день я был уже в Подлипках Московской области, на военном заводе, куда меня распределила Межведомственная комиссия еще за полгода до окончания института.
Завод, на котором оказался, был мне хорошо знаком, особенно сварочный цех, где я проходил преддипломную практику. Вот туда и определил меня заводской отдел кадров в качестве сменного мастера.
Со своей работой быстро освоился, тем более что оборудование цеха было не таким уж сложным: несколько токарных станков, с полдюжины разных сварочных автоматов и десятка два сварочных кабин, в которых работали преимущественно женщины. Последнее нередко ставило меня в затруднительное положение, когда приходилось выбирать между строгостью и требовательностью, какая должна быть присуща мастеру, и чисто человеческими чувствами с их мягкостью. Чаще всего перед таким выбором оказывался я во время ночных дежурств. Об одной из таких ситуаций хочу рассказать.
Находясь на командном пункте, можно было наблюдать через широкое окно кабинета, во всех ли кабинах ведется сварка, так как в этом случае оттуда пробивался яркий свет. И вдруг замечаешь, что одна из кабин перестала светиться. Переждав какое-то время, идешь туда, чтобы проверить, что случилось, почему прекратилась работа. И видишь, что сварщица, наклонив голову и даже не откинув с лица щитка, спит непробудным сном, уткнувшись остывшим электродом в обрабатываемую деталь. У нее, бедняжки, видимо, накопился такой недосып, что ее и пушечным выстрелом не разбудишь. И мне, признаться, не хотелось будить ее. Ведь знал же, какую непосильную тяжесть взвалила война на плечи женщин, вынужденных в дополнение к повседневной заботе о доме работать вместо ушедших на фронт мужчин. И я стоял над спящей женщиной, одолеваемый такими раздумьями, не решаясь потревожить ее, хотя такая сентиментальность была в то время явно неуместной.
Завод производил в основном современные пушки и другие орудия оборонного назначения. Однако значительное место в производимой продукции занимали так называемые народные средства обороны. Например, сваренные из швеллеров конструкции в виде ежа, предназначенные для задержания танков противника. Они устанавливались изгородью на наиболее вероятных подступах врага к столице и другим городам. Десятками, а то и сотнями тысяч варились «ежи-колючки» - изделия такой же примерно конструкции, но намного мельче, с большой кулак, из стальных прутьев 6-7 мм с заостренными концами. Эти предназначались для прокалывания шин колесной техники противника и разбрасывались с самолетов по дорогам и другим местам, где могла появиться такая техника. Изготавливались также складные «ширмы» из броневых листов для защиты обслуживающих орудия бойцов от пуль и снарядных осколков.
Не берусь судить, насколько эффективными могли быть все эти средства, но знаю, что от «ежей-колючек» пришлось вскоре отказаться, так как шины немецкой колесной техники обладали способностью самозатягиваться после любого прокола.
А вот с автоматами дело у нас обстояло, видимо, совсем плохо, их было явно недостаточно, хотя недавняя война с финнами заставила наших стратегов взяться и за их производство. Но, похоже, «раскачивались» медленно, по-русски. А пока в Москве нередко можно было наблюдать, с каким интересом прохожие рассматривали это экзотическое оружие, если на их пути попадался автоматчик. Его сразу же обступали любопытные и расспрашивали об эффективности автомата, щупали диковинку.
На первых порах после моего появления на заводе рабочий день длился, как обычно, восемь часов. И каждый вечер после работы я имел возможность приезжать поездом в Москву и проводить вечер и ночь со своей немногочисленной, но очень любимой семьей. А утром также поездом возвращался на завод. Но такой «щадящий» режим длился недолго: вскоре был введен новый, военный распорядок. Весь инженерно-технический персонал, а также большие группы рабочих определенных специальностей перевели на казарменное положение. Они ночевали в находившихся поблизости от завода общежитиях и бараках. Домой отпускали только с разрешения начальства и лишь по уважительным причинам. В случае тревоги в любое время дня и ночи все должны были являться к месту своей работы на заводе для получения соответствующих указаний.
По мере продвижения противника по советской территории, к сожалению довольно быстрого, он также быстро наглел и начал засылать в ночное время свои «мессершмиты» на Москву для бомбежек или сбрасывания зажигательных бомб. А вскоре они стали появляться и в районе нашего завода. Во время таких налетов специальные сигналы сирен обязывали москвичей немедленно отправляться в сооруженные по всему городу бомбоубежища или вырытые в земле «щели» глубиной чуть выше человеческого роста. В это же время члены заранее созданных специальных команд должны были забираться на чердаки и крыши домов и дежурить там в течение всего времени налета на тот случай, если будут сброшены зажигательные бомбы. «Зажигалки» - как мы их презрительно называли. Участников таких команд предварительно «накачивали» инструкторы противовоздушной обороны (ПВО), обучали их, как сбрасывать «зажигалки» на землю и что делать с ними дальше.
Примерно такой же распорядок был введен и на нашем заводе. С той лишь разницей, что на время налетов приходилось останавливать практически все цеха и отключать электричество. Люди же, как и в Москве, отправлялись в «щели». Специально оборудованных бомбоубежищ на заводе было недостаточно, а может, и совсем не было - такого ведь никто не ожидал. И чем ближе к Москве продвигался противник, тем чаще совершались воздушные налеты на Москву и ее окрестности. Уже к концу августа приходилось прекращать работу завода иногда по несколько раз за ночь.
Когда работа на заводе была переведена на казарменный режим, лишавший меня возможности регулярно навещать семью в Москве, я решил отправить жену с ребенком в Пензу к ее сестре. После их отъезда на душе у меня стало намного спокойнее, и я весь отдался работе на заводе. Даже в Москву перестал ездить, делать там мне было нечего.
А вскоре немецкие войска оказались на ближних подступах к Москве (это было в начале октября 1941 г.). И тогда пришло указание сверху об эвакуации завода на Урал. Возможность такой эвакуации, видимо, не исключалась и ранее, даже в то время, когда наши войска собирались бить возможного врага «только на его территории». Тогда же, наверное, были разработаны соответствующими организациями и планы такой эвакуации. На всякий случай. Но только теперь, когда невероятность случившегося стала явью, было сочтено необходимым ознакомить с этими планами командный состав завода. И то не всех, а только тех, кому это положено: не ниже начальника цеха. Так что я, будучи всего лишь сменным мастером цеха, узнал об эвакуации завода неофициально от своего «однокашника» Пальчука, «по секрету». В основном же такие работяги, как я, руководствовались ежедневными заданиями, получаемыми от непосредственного начальства.
Но так или иначе все стали спешно готовить оборудование завода к «переселению»: отбирали самое необходимое, без чего на новом месте нельзя было обойтись. Отобранное помечали устойчивой краской - из какого цеха, в какой вагон, - чтобы не разрознить, не утерять. Работу закончили быстро, по-военному. За каких-то четыре или пять дней основное оборудование завода было демонтировано и погружено в подаваемые по заводским железнодорожным путям вагоны и на платформы. Составы из них могли отправляться на Урал в любое время.
С этими же составами должны были отправляться и заводские рабочие со своими семьями. В свободное от работы время, а его оставалось чертовски мало, надо было съездить домой и собраться: отобрать и упаковать необходимые на новом месте вещи, а остальное как-то законсервировать, чтобы моль не съела. Ведь никто же не знал, когда придется вернуться. Да и с оставляемым жильем надо было как-то распорядиться. День отправки эшелонов с оборудованием и людьми был уже назначен.
Меня очень беспокоила в те дни судьба моих девочек, не мог же я оставить их в Пензе, где они временно находились. Туда ведь немцы могли добраться раньше, чем до Москвы. Надо было во что бы то ни стало забрать их оттуда. А как? И решил я отпроситься у начальства на поездку в Пензу. Заводское начальство такого разрешения дать не могло, пришлось обращаться за этим в Управление кадров Наркомата вооружения. Начальником Управления был, к моему счастью, тоже мой «однокашник», Румянцев. Выслушав меня, он не только удовлетворил мою просьбу, но снабдил меня соответствующим командировочным удостоверением, без которого, как он объяснил, добраться мне в те дни до Пензы будет трудно, а то и невозможно.
Вернувшись на завод, я доложил о своем отъезде Пальчуку и снова отправился в Москву, чтобы ехать в Пензу. Это было 16 или 17 октября 1941 года. Я особо выделяю эту дату как самый кульминационный период из всего военного времени, когда Москва находилась в наиболее тяжелом, можно сказать, критическом положении.
И вот что я увидел, когда вышел из электрички на Комсомольскую площадь Москвы, где сходятся главные железнодорожные артерии, связывающие столицу со всей страной.
Почти вся площадь была запружена автомобилями разных назначений и марок, а на свободной от машин территории валялись в беспорядке, кучами и в одиночку, какие-то вещи. Издали мне показалось, что там были разные предметы хозяйственного назначения, вроде столов, стульев, этажерок и торшеров. Виднелись даже подвесные цветные абажуры. Похоже было, что торопившиеся уехать из Москвы владельцы этих вещей намеревались увезти их с собой, но увидев, что творилось в помещении вокзала и на платформах у поездов, отказались от таких мыслей и оставили все это добро на привокзальной площади.
Хотя необычное оживление наблюдалось у всех выходящих на Комсомольскую площадь вокзалов, наибольшую концентрацию оно носило у Казанского вокзала, откуда уходили поезда в южном и восточном направлениях. К нему будто присасывались, наподобие вылетевшего из улья пчелиного роя, не только автомашины, но и люди с чемоданами и узлами, стремившиеся попасть внутрь здания. Уже на дальних подступах к его входу творилось что-то невероятное.
Посмотрев на эту картину, решил не подвергать себя такому испытанию дважды, а сходить сначала домой, уладить там все свои дела, а уж затем, возвратившись, включиться в борьбу за приобретение места в каком-либо поезде, уходящем в сторону Пензы.
К тому же мне хотелось посмотреть, что творилось в других частях Москвы. И я отправился пешком не только потому, чтобы лучше все увидеть, но и потому, что другой возможности практически не было, так как весь наземный транспорт оказался недоступным. Трамваи, автобусы и троллейбусы были буквально облеплены людьми, висевшими не только на подножках, но и на буферах. А уж о такси не могло быть и речи, те даже не останавливались ни на какие поднятые руки, мчались, перегруженные пассажирами и багажом, как угорелые.
И хотя от Комсомольской площади до Лефортово, где находилось мое жилье, можно было добраться кратчайшим путем, затратив на это меньше часа, я решил пойти по улице Кирова (теперь она снова называется по-старому - Мясницкой), отражавшей, как мне казалось, наиболее характерные черты тогдашней Москвы. Улица была вся в движении, люди куда-то спешили, будто на поезд или самолет. И обязательно что-то на себе тащили - чемоданы, узлы или какую-либо хозяйственную утварь.
У Главного почтампта, кишевшего вбегавшими в него и выбегавшими оттуда людьми, по обе стороны от него расположились замаскированные зенитные установки с суетившимися вокруг них расчетами, состоявшими, как мне показалось, из одних женщин. Такие же установки попадались по пути моего следования и дальше вдоль всего пути.
Заглядывал я и в некоторые продовольственные магазины, где заметил, что еще недавно заполненные разным товаром полки были полупустыми или совсем пустыми.
Дойдя до Лубянки, а оттуда до Красной площади, увидел там много построенных в колонны и куда-то направлявшихся людей. Одни были в полевой военной форме и с винтовками, другие - пока еще в своей одежде и без оружия. Попадались колонны, одетые во что попало и «вооруженные» в основном кайлами, лопатами и другим инструментом, предназначенным для земляных работ. Все эти колонны двигались, как мне показалось, на запад, на встречу с врагом. И от этого я почувствовал какое-то облегчение: слава богу, по-думалось мне, стало быть, Москва не собирается сдаваться, еще не утрачена надежда на то, что рвущийся в Москву враг будет остановлен и отброшен.
Не желая расставаться с этим чувством, спустился в метро, проехал до ближайшей к Лефортово остановки и вышел. А там через 10-15 минут хода и семейное общежитие института, в котором находилась моя полуторакомнатная квартирка.
Войдя в подъезд общежития, я не обнаружил обычно дежурившего там вахтера. Но ключ от моей квартиры висел рядом с другими на своем месте, на закрепленной на стене доске с разметками. А когда поднялся на второй этаж и стал отпирать свою дверь, с большим удивлением услышал в квартире чей-то говор. Оказалось, что это была наша милая «тарелка» - висевший на стене репродуктор, который мы никогда не выключали, оставляли его «на дежурстве». И теперь знакомым голосом диктора сообщалось о положении в Москве. При этом ни о какой растерянности, тем более панике, не было и намека. Наоборот, говорилось о том, что Москва по-прежнему непоколебима и уверена в том, что оказавшийся у ее порога враг будет сломлен и отброшен. Особо подчеркивалось, что высшее командование во главе со Сталиным находится в Москве и никуда из нее не собирается уезжать, как об этом неустанно трезвонит вражеская пропаганда и ее приспешники.
Наскоро собрав самое необходимое, что могло понадобиться и что можно было унести пешим ходом, я запер квартиру, спустился на первый этаж и, повесив ключ на прежнее место, отправился на Казанский вокзал. А там, пробившись с трудом к кассам, где должны были продаваться билеты на поезда дальнего следования, обнаружил, что почти на всех окошках этих касс висели объявления, что билетов нет. При этом никаких объяснений и обещаний. Единственным действующим окошком, к которому выстроилась длинная очередь, было окошко военного коменданта. Пристроился к этой очереди и я.
Когда подошла моя очередь, я, протянув в окошко свое командировочное удостоверение, спросил, не поможет ли мне военный комендант уехать в Пензу для выполнения срочного поручения Наркомата вооружения. Я надеялся, что такие слова должны возыметь действие на коменданта, поскольку в те дни Наркомат вооружения пользовался очень большой популярностью и авторитетом. И они, похоже, сработали: человек, сидевший по другую сторону окошка, отошел куда-то, а вернувшись, протянул мне мое удостоверение и сказал, что ко мне выйдет помощник коменданта и постарается помочь с отправкой.
Через несколько минут появился человек в военной форме, представился и попросил меня следовать за ним. Выйдя на перрон, мы прошли вдоль нескольких поездов, и почти у каждого вагона помощник коменданта выяснял у проводников возможность пристроить меня. Но тщетно, все вагоны оказались набитыми до отказа.
Наконец повезло, я был «погружен» в вагон, в котором эвакуировалось Ленинградское военно-морское училище. Ни о каких удобствах говорить не приходилось, так как вагон был напичкан курсантами «под завязку». И мне с трудом удалось приткнуться на сидячее место у окна в проходе. Но я и этому был рад и не сходил с него до самой Пензы.
Вот такой запомнилась мне Первопрестольная в ее роковые дни середины октября 1941 года: суетливой, напряженной и даже обеспокоенной. Совсем не похожей на ту, какой она была обычно, - степенную и уверенную в своей нерушимости. И было от чего не только беспокоиться, но в какой-то степени и растеряться, ведь враг стоял буквально на ее пороге, откуда можно было рассматривать в бинокль и Красную площадь, и другие места нашей столицы. В любой момент вражеские танки могли оказаться и на ее улицах.