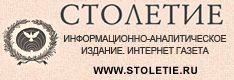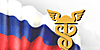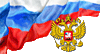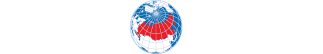Старейшему Университету России – СПбГУ исполнилось 300 лет. О нынешних студентах, востоковедении, музейном деле и мировой культуре журналу «Международная жизнь» рассказал академик, директор Государственного Эрмитажа, декан Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета Михаил Пиотровский.
- Михаил Борисович, сейчас много приходится слышать об «отмене» русской культуры. Мы не отвечаем зеркально. А можно ли вообще отменить культуру, тем более русскую?
- Думаю, тут всё перепутали, потому и не отвечаем, что нечего отвечать. Есть два процесса: во-первых, есть процесс отмены России, а не русской культуры. Русская культура везде чудно присутствует. Русские спортсмены есть на Олимпиаде, а России – нет. Есть попытка отменить Россию как государство, создать в информационном поле некую блокаду, когда России как бы нет. Русская культура есть, русские люди есть, Чайковский никуда не денется. Это первое.
Вторая вещь более серьезная: сейчас идет общий процесс отмены культуры как таковой. Культура как бы вымывается из общественного пространства, ее уровень снижается, культура особенно не нужна. Все, что мы относим к культуре, начинает относиться к другим вещам. Например, продвижение идеи отмены музеев: «Музеи – хранители награбленного, они хранят то, что не для них создавалось». И на этом строится, с одной стороны, требование реституции внутри страны (у нас здесь православная церковь впереди идет, за ней в очереди стоят музеи друг к другу, регионы к центральным музеям, потомки частных собственников и т.д.). С другой стороны, во всем мире идет вопрос о том, что все, что находится в универсальных музеях – это грабленное-награбленное. Так говорят гиды, так пишут. Это часть именно отмены культуры, потому что музеи – одна из высших категорий культуры. Это анализ того, что создается человеком для сохранения памяти человечества.
Культура существует у каждого народа, но при этом (об этом сейчас много говорится) культура должна и может существовать только как единая мировая культура. И это очень даже практическая вещь. Культуру нельзя отменить. Русскую культуру нельзя отменить не потому, что она хорошая, а потому что она – часть мировой культуры. Отменить Россию невозможно, но пытаются, а русскую культуру никак – Чайковский и Кандинский принадлежат мировой культуре. И когда по политическим причинам закрывается Эрмитаж в Амстердаме, то в новой институции, которая возникает, первая выставка – это Кандинский. А это опять Россия.
Сейчас постоянно идут разговоры о деколонизации, пересмотре сложившейся культурной практики. Это все – уничтожение той мировой культуры, которая создана. Но повторю – культура не должна отменяться, потому что она принадлежит миру. Если культура только ваша, то вы ее легко можете уничтожить. И уничтожали. Свою культуру уничтожали мусульманские радикалы – Пальмиру, мы уничтожали церкви, христианская культура уничтожала античную. Это существующий процесс, но от него и нужно беречься, нужно сохранять вещи как часть мировой культуры. Вот о чем, на самом деле, речь. И вообще, в многополярном мире, который мы создаем, который строится на суверенитете культур разных стран, провозглашая суверенитет, надо одновременно найти механизмы выполнения этими суверенными культурами функций части мировой культуры. Один из этих механизмов – музеи.
Кстати, неслучайно в том мире, который сейчас воспрял и который называется Восток создаются универсальные музеи, например, известный Лувр Абу-Даби, сейчас создают музей в Саудовской Аравии. Их создают по образцу Эрмитажа. Когда Екатерина создавала Эрмитаж и везла картины куда-то к черту на кулички, то были такие же моральные возражения в Европе, как по поводу Лувр Абу-Даби – «зачем дикарям везти». Универсальные музеи – это понимание того, что все культуры – это часть единого общего, и они находятся в некоем диалоге. Это то, для чего существует музей и то, для чего, на самом деле, существует востоковедение.
- Россию действительно пытаются отменить. И это, наверное, во многом связано с деградацией политической элиты Запада, о чем сейчас многие говорят. Музейного дела это коснулось?
- Музеи это не затронуло, а музейное дело как часть общего состояния культуры это затронуло. В культуре на Западе есть средний слой, который последние 20 лет занимался только добыванием денег. Это такие средние администраторы культуры, не самые высшие. Внизу трудятся люди, которые по-настоящему преданы культуре, а в средний слой приходят люди с совершенно другим опытом – добывания денег, администрирования через оценку доходности и тому подобное. У них не было времени получить высокий культурный уровень. Его нет, поэтому нет понимания того, чего для культуры делать нельзя, потому что этого нельзя делать вообще. Некоторые из них смеются над этой формулировкой, а зря, потому что «этого нельзя делать никогда» и есть культура.
- Я спрашиваю об этом, в частности, в связи с одной из самых громких музейных историй последних лет – так называемой Скифской коллекцией, которая так и не вернулась из Европы в крымские музеи, которую у Крыма фактически украли.
- Это пример абсолютного непонимания, что на самом деле происходит. Происходит более серьёзная вещь.
Во-первых, никакой «скифской коллекции» нет. Скифских там три-четыре предмета. Это лишь красивый крик – «скифы, золото» – для создания фона. Это коллекции крымских музеев. Это совершенно другая вещь. Они были задержаны и не возвращены в музеи. Здесь встает принципиальный вопрос: кому принадлежат музейные коллекции – музею или государству? Если государству, то они принадлежали государству Украина. Они записаны в музейный фонд государства Украина. Если музеям, то они принадлежат музеям. Соглашение с голландской стороной подписывали музеи, им давали гарантию возврата, но через таможню они вывозились с разрешения государства Украина. Теперь они – часть государственного музейного фонда России.
У нас так же существует российский музейный фонд и музеи не являются хозяевами своих коллекций. Государство может их в любой момент забрать, куда-то передать. Мы сейчас вернули в наш закон важные поправки о том, что музейные коллекции неделимы. Это принципиальный вопрос. То, что юристы не сумели отвоевать – это другой вопрос. Да, произошла кража, но украли у музеев.
Таких ситуаций в мире достаточно много. Кто хозяин музея? Это могут быть попечители, как в Британском музее, они хозяева его вещей, государство им поручило. Есть частные музеи. Это сложная история, и в разных случаях вопрос решается по-разному. У крымчан украли их коллекции – это правильная формулировка. Но что у России украли – это другой разговор. Российское право на эти коллекции не признается международным судом, потому что не признается воссоединение Крыма с Россией.
Эмоция красивая, но в этом надо разбираться, противостоять этому надо по-серьезному: каким образом можно брать вещи из музеев, какие гарантии того, что вещи вернутся. Это серьезный вопрос не только международного права, но и международной практики.
- Но ведь после этой истории, а также из-за проблем по возвращению картин российских музеев с выставок во Франции наша выставочная деятельность на Западе фактически прекратилась.
- Между прочим, обмены с музеями Соединенных Штатов прекратились еще 20 лет тому назад, потому что США отказались давать выставкам гарантии, которые мы просили. Зная об обострении обстановки, а в музеях ее видят давно, Министерство культуры и музеи ввели очень жесткую систему гарантий возврата вещей. Их смысл в том, что органы государственной власти (не парламенты) дают жесткие гарантии, что вещи вернутся в срок. США отказывались их давать, ссылаясь на то, что у них есть «хороший» закон: если вещи отнимут, то через него их можно вернуть.
Европа такие гарантии приняла. Они довольно жесткие, вплоть до того, что вещи вернутся, даже если будут любые иски. Всё было довольно хорошо продумано. Эти гарантии сработали, когда после начала украинской истории возникла ситуация с нашими выставками в Европе. Это было непросто, нужно было настаивать, потребовалось высшее вмешательство, но на бумаге все было прописано, и это был вопрос чести для тех, кто принимал выставки. Они все выполнили. И, слава Богу, что принимали нас частные компании, а не государственные. Даже ввели специальные инструкции Евросоюза, что музейные вещи могут ехать (в Россию – ред.), потому что есть гарантии.
Это показатель того, что вообще-то все опасно. И не только для нас. Кругом существуют бесконечные споры о том, кому что принадлежит. Это включает и вопросы реституции. Например, спорные вещи не могут из Англии или Америки приехать куда-нибудь, потому что будут подаваться иски, в том числе частными лицами. Или приехала, например, куда-нибудь выставка египетских вещей из Германии – египетское правительство может подать иск. И подают иски. Я уже не говорю о военном времени. Очень много людей, претендующих на собственность на искусство, потому что придумали интеллектуальные права. В прежнее время таких прав не было.
Сейчас система отношений такова, что музейные вещи находятся в опасности, проблемы не решены, поэтому выставочная деятельность сейчас затихает. В нынешних условиях может лучше и не возить. Лихорадка бесконечных выставок, которая охватила мир в последние 20 лет – это все время какая-то опасность. Чтобы это больше ценилось, надо может быть делать выставки более избирательно.
- Но зато теперь появилась возможность больше своим показывать, наверное?
Бывает по-разному. На большую выставку в Эрмитаж приходит миллион. В эрмитажных «спутниках» – меньше.
У нас много центров Эрмитажа, мы возим каждые шесть месяцев потрясающие выставки. Свои всё видят, но свои достаточно нелюбопытны, люди были заняты своими делами. Но сейчас постепенно приходят новые посетители, новые поколения, люди, для которых это не модная обязанность, как это было прежде, а которым действительно интересно.
Главное, понимать, что это все принадлежит миру. Просто надо показывать шире всем, больше использовать новые технологии и делать так, чтобы люди были подготовлены. Нам очень нравятся сейчас посетители Эрмитажа: по глазам видно, что люди подготовлены. Это люди, которые умеют купить билет по интернету, соответственно, смотрят в интернет, и когда они приходят, то не ходят по музею за флажком гида, и пришли они не для галочки. По тому, как они смотрят видно, что они кое-что видели в мире, значит, готовились и к приходу в Эрмитаж. Ясно, что они потом откроют интернет и посмотрят еще раз то, что видели своими глазами.
- Наверное, у нас действительно не хватает культуры выставок, потому что на прекрасной экспозиции в Генеральном штабе практически нет народа, все стремятся в Главное здание.
- В Генштабе совершенно новое музейное пространство, другая экспозиция. Там очень просторно, там хорошо ходить, гулять, там надо соображать. Если здесь люди жалуются на навигацию, то там уж точно с навигацией сложно, потому что большие пространства. Там другая категория публики – люди подготовленные, люди, у которых есть определенный уровень культуры. Там замечательные пространства, но они требуют некоторой подготовки. Когда Матисс висел здесь на третьем этаже, то все всё равно идут, ну, и на Матисса идут. А теперь он висит там. У нас камеры в зале Рафаэля и Матисса и, говоря об уровне интереса, можно посмотреть, сколько народа бывает в зале Матисса, хотя «Танец» Матисса – общепризнанный мировой шедевр, он в пятерке самых главных картин Эрмитажа.
Кто-то в соцсетях написал, мол «не может быть, никогда не поверю», что основной посетитель в Главном штабе моложе 35 лет. У нас действительно посетителей моложе 35 лет стало много – по одному ходят, парами, с детьми.
Главный штаб – это лаборатория музейного искусства, там новое искусство и там гвардия, а русская военная история требует особого внимания и подхода. К этому должен быть вкус. Туда нельзя просто пойти и сказать, что побывал там, где были цари. У нас беда с тем, что приходят в Главное здание, потому что здесь цари, и если правильно не рассказать, то выходят не всегда с правильным представлением.
Это функция Эрмитажа – мы воспитываем. Также как последние 20 лет мы приучали к императорам и царям, и протестов по этому поводу тоже много. Пишут, что мы выставляем императоров, а они эксплуатировали несчастных людей. Этот социальный слой на Западе вылез, но у нас он тоже существует. Приучаем, объясняем, что такое Россия, что такое императоры, что такое культура, что такое музей как порождение российской истории и культуры, а дальше через это, что такое уже мировая культура. Мне нравится, и я все время повторяю, что Эрмитаж – это энциклопедия мировой культуры, написанная на русском языке.
- А есть какой-то мониторинг посетителей? Какова доля молодежи, которая приходит не в составе групп, зачастую по разнарядке, а в индивидуальном порядке, то есть из личного интереса?
- У нас есть социологи, они все тщательно изучают. Мы только не считаем, сколько российских, а сколько иностранных посетителей. Хотя мы изучаем жители или не жители Петербурга они. Для нас это важно – количество последних увеличивается.
По возрасту: есть поколение Z, поколение Y. Увеличивается, как я сказал, количество людей, приходящих в одиночку, парами, с детьми. Это главное качество нынешнего зрителя. Меньше тех, кто ради галочки приходит с туристическими группами, но и туристические группы несколько поменялись, стали более интеллигентного вида.
- Вы сказали ранее о сложной системе отношений музеев, государств, а нормально ли складываются отношения с коллегами на Западе?
- Ничего нормального нет. Сейчас Советский Союз переместился на Запад – также как у нас было, и, не дай Бог, вернется запрет на всякое общение без десяти разрешений, так и там сейчас действует запрет на официальное общение всех официальных учреждений с государственными учреждениями Российской Федерации.
Связи человеческие есть: регулярно переписываемся, люди могут в одиночку поехать. И ездят, чтобы заниматься в библиотеках и т.д., но того, что было последние 15 лет, нет. Оборвано, и в значительной степени повод для этого был найден Западом, потому что, по большому счету, мы всем немножко надоели. Там появилось новое поколение музейных людей, ориентированных на деньги, на пиар. И как им ни к чему рядом большие российские компании, которые покупают акции нефтяных промыслов и становятся мировыми силами, точно так им не очень уютны российские музеи, которые вовсю рассказывают о российской истории, российской имперской истории. Там пишут про Эрмитаж, который «отмывает» имперскую историю России. Мы действительно рассказываем об императорах с утра до вечера. Это части людей надоело, у них есть своя точка зрения, они считают, что главное – продвижение социально-политической повестки. Мы сейчас сделали выставку Франса Снейдерса. Если бы мы делали ее в Амстердаме, при нынешней интеллектуальной ситуации на Западе, мы должны были бы обязательно говорить о том, что все это богатство Фландрии с искусством натюрмортов покрывает ужасную эксплуатацию несчастных людей в колониях. Был бы протест, потому что надо обязательно вставить каких-нибудь черных людей. Обязательно надо было бы говорить, что Великие географические открытия тоже были началом колониализма, забывая, что само слово колониализм придумано в Европе. Думаю, были бы протесты по поводу рисунков петровского времени на пергамене (причем это кожа еще неродившегося теленка, очень тонкая). Были бы протесты экологов.
Этот мир немножко перестроился, и в этом мире такой наш рассказ о России (а все наши выставки – это рассказ о России, ее месте в мире) уже не совсем попадал в повестку дня, которая начинает формироваться в обществе. Ситуация с Украиной – это повод, потому что мы стали надоедать – слишком мы особенные, слишком хорошие, поэтому сразу с полуоборота начинается: «Эрмитаж – проповедник империализма».
Это надо и нашим знать – мы другим не конфеты дарим. Эрмитажные выставки – это мощная мягкая сила, доказывающая то-то и то-то, поэтому ее и стали отбивать.
- Несколько лет назад был провозглашен поворот на Восток. Мы действительно повернулись на Восток?
- Нет у нас никакого поворота на Восток. Нам не нужен поворот на Восток. Мы интеллигентные люди, великая страна. Восток присутствует в мире, так же как присутствовал Запад. Всегда он присутствовал и в Эрмитаже, поэтому нам никуда не надо поворачиваться, приходите, и мы вам объясним, что такое Восток. А это нужно. В Эрмитаже новые экспозиции по Востоку, в наших центрах проходит выставка «Пять символов китайского счастья», которая разъясняет, что такое Восток, потому что культурного уровня для это у многих не хватает.
Главное, что это никакой не поворот. Просто сейчас многим стало ясно, что всегда было ясно – мир большой и в нем одинаково равные культуры. Культуры Востока столь же замечательны и важны, как и культуры Запада. А музеи в странах Востока сейчас еще и лучше, потому что там создаются новые музеи, как уже упомянутый Лувр Абу-Даби. Там и современное искусство лучшее собирается, а Китай чуть не каждый день открывает совершенно замечательные музеи. Плюс все новейшие технологии там. Когда сейчас делают выставки современного искусства на Западе, в Америке, то посмотрите, кого они выставляют – китайских, корейских, японских художников; арабских стали выставлять, своих уже значительно меньше. Это реальность – мир многообразен, и он должен строиться на суверенитете разных культур, они все едины. Это первое. А второе – они суверенные. Это многополярность. Просто мы должны чуть-чуть подобразоваться и понять, что это так же важно, как экономика и политика. Вот для чего существует Восточный факультет, который объясняет, что такое Восток и что такое востоковедение.
Для этого существует и Эрмитаж. Мы всегда готовы к тому, что богатой русской культуре еще и еще понадобятся знания о Востоке.
- Многие директора Эрмитажа, включая Вас, были востоковедами. Как вы объясните этот феномен?
- Директора Эрмитажа всегда должны быть учеными. Этот принцип отличает нас от многих других музеев. Мало музеев, где этот принцип жесткий. В европейских – да, в американских – в основном менеджеры и просветители. У нас особый музей – в Эрмитаже все директора всегда были учеными: и не только востоковедами, но еще и академиками.
Эрмитаж – это музей мировой культуры. Это важно подчеркнуть, потому что его то картинной галереей считают, то дворцом русских императоров. И то, и другое правда, но, на самом деле, это один из нескольких величайших музеев, которые рассказывают о мировой культуре и сводят эти культуры в диалог. Теория этого диалога зиждется на науке, которая называется востоковедение, потому что востоковед всегда изучает Восток с европейской культурой. Он в двух культурах живет и понимает, что должно быть и то, и другое. Если ты просто занимаешься русской историей, то тебе плевать на все остальное на свете. А востоковед – он в принципе не может наплевать, потому что знает – культур несколько.
То же самое с изучением Запада – там однобокий европоцентризм преодолевается научным способом, преодолевается востоковедением, пониманием восточных культур, их развитием. Это характер востоковедения – это такая синтетическая наука, которая вообще-то о том, как понимать друг друга. Восток – это условное понятие. Восток – это другие. И востоковедение – это наука о том, как понимать других, как нужно изучать культуру других народов из своей культуры и как строить диалог, чтобы друг друга понимать. Это лежит в основе музея.
Сейчас идут разговоры про колониализм, борьбу с его наследием. В советской России это было 100 лет назад – в 20-е годы прошлого века, когда мы объявили свою страну «тюрьмой народов». А дальше началась деколонизация, только она была не такая, как сейчас на Западе, когда просто истерично скидывают какие-то статуи, грязью пачкают статуи Вольтера и т.д. У нас она шла через возвышение народов, через рассказ, как велико наследие народов, которые были в той или иной степени колонизированы, подчинены Россией или не Россией. Начались праздники Низами, Навои. Если бы тогда это не началось, если бы не было этих заседаний в блокаду (19 октября 1941 года в блокадном Ленинграде по инициативе директора Эрмитажа Иосифа Орбели был отпразднован 800-й юбилей Низами Гянджеви – ред.), не было бы такого великого Низами, которого знают во всем мире. Был Конгресс по иранскому искусству, который устроил директор Эрмитажа, академик Иосиф Орбели. Это все было мощным движением возвышения, некой компенсацией этим народам через диалог культур. Дальше это очень способствовало развитию национального самосознания. Кончилось разделением Советского Союза. Но это когда-то и должно было произойти, потому что росло национальное и культурное самосознание людей. Благодаря тому, что, видя в музеях свое культурное достояние рядом с великим культурным достоянием Европы, античным, они понимают, как велико их собственное достояние.
Дальше начинается интеллектуальная собственность – «а почему это здесь, а не у меня». Это отдельный разговор.
- Вы не только директор Эрмитажа, но и декан Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета, который готовит востоковедов. Изменилось ли за последние годы и качество преподавания, и качество абитуриентов, по сравнению с тем временем, когда Вы учились?
- Мы, конечно, были лучше (со смехом – ред.). У нас почти не было девушек, их принимали очень мало, потому что ориентация была на работу за границей, на военную, на политику. Сейчас девушки замечательные, все студенты замечательные, отличные.
Факультет у нас сам по себе отличный, и если говорить о повороте на Восток, то он готов обеспечить все интересы России – как культурные, так и политические. Но все как строилось, так и строится на академической науке, на ее принципах – глубокое знание языков, глубокое знание текстов абсолютно необходимо, чтобы потом человек мог быть кем угодно. Академик, арабист по образованию Евгений Примаков (кончал не наш факультет) был премьер-министром.
Востоковед может быть кем угодно в любой сфере, но он должен глубоко академично знать языки, культуру стран. Сейчас очень легко говорить, чем отличается востоковед от других: вот есть гугл-переводчик, так вот востоковед находится не просто в конкуренции с ним, а востоковед может делать то, что не может делать гугл-переводчик. Гугл-переводчик переводит примитивно механически тексты, а понять смысл текстов и пять смыслов, которые есть в тексте, гугл-переводчик не может в принципе. Это должен понимать востоковед, этому его учат. Это важная особенность. Надо понимать, что значит каждое слово в каждом контексте, поэтому должны быть живые люди.
У нас идут споры, нам все время приходится отстаивать право на то, чтобы востоковедение называлось отдельной наукой, был отдельный факультет. Практически у каждого декана такая работа, и у меня тоже. Я уже несколько раз проводил акции, чтобы сохранить это как отдельную преподавательскую дисциплину, сейчас мы боремся за то, чтобы сохранять востоковедение как отдельную научную дисциплину. Все время есть какие-то возражения. Мы говорим, что это особая дисциплина со своим отдельным предметом (в принципе, это синтез наук), которая, на самом деле, наука об иных, об ином – имагология. Это особый предмет. Это не выяснение истины, которой не существует, а основа для возможного изучения культур и того, как превращать войны памяти в диалог культур, потому что большая любовь к собственным культурам за счет других культур может приводить к войнам памяти. И приводит. А востоковедение должно создать основание для того, чтобы эту память превращать в диалог культур. Поэтому востоковедение – это элитная наука.
У нас 60 редчайших языков преподается на факультете, все время приходят какие-то новые языки. Для нас это наука со своими особыми предметами и методологией, но иногда говорят, что это такая референтура – те же сведения, что и про Запад, но только про Восток. Это абсолютно неправильно. Идет довольно жесткий спор между практиками и учеными. Ученым ясно, что это наука и из науки должна идти практика, а практики считают, что это просто «справочку напишите, а я сам разберусь». Только не разберется он просто по справочке.
Одно из величайших достижений нашей дипломатии, и до сих пор существует это конкурентное преимущество – все послы на арабском Востоке, которым я занимаюсь, говорят по-арабски, почти все они арабисты. Этой традиции много лет. У американцев такого нет. И контингент наших дипломатов – это люди, которые учились в странах, жили, знают, понимают. Это особенная категория людей.
Надо проповедовать синтетический востоковедный подход, когда через понимание других стран мы объединяем и политологию, и историю, и филологию, а в основе лежит глубокое знание языка и умение им владеть. Причем сейчас происходит важное изменение – в этом многополярном мире, мире суверенных культур языки выходят на первый план. Какое-то время везде был английский. Всё уже с английским, будьте добры с китайским. И это не только в работе, а в принципе. Эти народы хотят, чтобы на их языках говорили и чтобы с них переводили. Сейчас интересная коллизия – на разных международных встречах одни арабы говорят по-арабски, другие по-английски. И здесь опять входит гугл-переводчик.
Сейчас большая программа в Африке. Начинают требовать, чтобы на их языках говорили и писали. Причем в Южной Африке 60 языков. Они создают систему, при которой большая часть из этих языков официальные. Слава Богу, есть средства для механического перевода и каждый язык может быть переведен. А это значит, что каждый язык может не умирать. Если его признают, и машина легко переведет, когда вы пойдете в налоговую инспекцию, то значит, возвращаясь домой, вы можете говорить на своем родном языке, не обязательно говорить на официальном языке страны. Африканские языки так будут сохраняться.
Нам ничего менять не нужно, мы продолжаем. У нас испокон веков есть кафедры языков Средней Азии, Кавказа, которые были на территории Советского Союза. У нас на факультете появился уйгурский язык и сейчас появится сомалийский. Африканские языки приобретают новое значение.
- Может это связано с тем, что мы сейчас возвращаемся в Африку, чтобы более активно там работать?
- Это связано с тем, что они сейчас активны. С ними же нельзя разговаривать только языком колонизаторов. Они будут говорить на нем, но если говоришь им на нормальном языке, то можешь о других вещах поговорить.
Мы возвращаемся, но, чтобы вернуться, мы должны понимать реальность – английским и французским не обойтись.
- Практически все страны Глобального Юга, Африки в той или иной форме прошли колониальный период в своей истории. Насколько эта антиколониальная повестка сейчас актуальна?
- Как я уже сказал, мы это все проходили в Советском Союзе 50-60-80 лет тому назад, когда деколонизация была и положительной – изучались, возвышались культуры народов Востока, готовились собственные кадры, которые дальше развивали эти культуры. Это все делалось востоковедением и востоковедами. И это продолжается сейчас. У нас есть кафедры и Средней Азии, и Кавказа, у нас чудесные связи с университетами и восточными факультетами республик, которые когда-то были частью Советского Союза. Это продолжение того, что есть советское, российское востоковедение.
Наше востоковедение всегда обеспечивало через высокий научный уровень практическую поддержку для советской, российской политики на Ближнем Востоке и Востоке вообще и сохранение уважения в отношениях между народами как теми, которые были в Советском Союзе, так и теми, кто не был в нем. Теперь это начинает выравниваться.
У нас есть еще одна особенность – наши бывшие территории можно назвать колониальными, можно не колониальными, здесь идут споры, но все они были в границах империи. Не в других странах, никуда не надо было ездить на корабле, поэтому этот Восток наш. У нас есть и ислам, и буддизм, и китайцы, и корейцы в наших границах. Это ситуацию несколько меняет и делает специфической: у нас всегда есть проблема – свой Восток и не свой. У нас еще во времена императорской России было сложное отношение к исламу – свой ислам и чужой. Свой хороший, чужой плохой.
Мы продолжаем традиции, мы изучаем Восток. Только я пока еретически начинаю говорить, что колониализм – это слово западное. Шли жесткие войны, воевали европейские империи с мощными восточными империями. Какой результат получился, это уже другой разговор. А колониальная система, колониалии, колонии существовали всегда. Мы гордимся греческими колониями на Черном море. Мы часть Европы, потому что у нас есть античное наследие.
- Экономическую составляющую стали сейчас больше изучать на факультете?
- У нас всё изучают, но сначала должен быть язык и культура. Экономика – это гугл-переводчик.
Чтобы заниматься арабской экономикой, да и нашей тоже, надо понимать, что такое ссудный процент. Понимать, что ссудный процент в исламе и иудаизме запрещен, потому что он считается аморальным, поэтому занимались ссудными вещами только иноверцы. Евреи давали только европейцам в долг и брали с них ссуду. Евреи же давали и мусульманам, мусульмане европейцам и так далее. Надо понимать, что такое те моральные устои, те моральные ценности, которые существуют. Это самый простой пример, который обходится тысячью разных способов, но это уже другой разговор.
Надо понимать про культурные ценности. Мы все говорим «традиционные ценности, историческая память». Традиционные ценности у всех в мире абсолютно разные. В одной культуре женщины закрывают лицо, в другой – не закрывают, в одной культуре может быть четыре жены, а в другой – четыре мужа и так далее по всем пунктам.
Нужно найти, где общие ценности. Это легко сказать, а сделать трудно. Для этого существует востоковедение, которое с этими вещами всегда общалось и понимает изначально наличие традиционных ценностей, как они преобразовывались, как они менялись, чтобы не изменить самосознание и веру в себя, как происходила европеизация. Этим всем занимается востоковедение, оно к этому готово. Оно занимается экономикой, мы преподаем восточные языки на экономическом факультете, политологическом, чтобы они знали язык. У нас есть магистратура, изучение общества со всеми его аспектами, но на основе академического знания.
Есть разница между университетом и Эрмитажем. В Эрмитаже люди привыкли держать вещь в руках.
- Считается, что в России существует две школы востоковедения – питерская и московская. Так ли это?
- Это было. В Петербурге всегда была более академичная, а в Москве – более практически ориентированная. Здесь больше университет, а в Москве – Лазаревский институт восточных языков, дипломаты и т.д. В советское время тут тоже было академической больше, чем в Москве, хотя не такая большая разница, как тогда изображали. Практически получалось, что просто разные люди: в Петербурге более далеки от политики, а в Москве – ближе.
Все это изменилось, изменились люди, да и я – то поколение, которое изменилось. Мы все вместе учились, работали, мы знаем, что надо читать рукописи, вместе с московскими коллегами работали переводчиками, занимались практикой, академической наукой, вместе были в экспедициях.
На уровне схождения и реальной жизни никакой особой разницы нет. И там, и там занимаются тем и другим, потому что все очень хорошие востоковеды – и московские, и петербургские. Арабисты все самые лучшие.
- А если говорить о западной школе? Некоторые политологи и политики сейчас очень любят говорить, что там не осталось нормальных востоковедов.
- Западная школа как была, так и есть. Она, на самом деле, очень делится по странам, по конфессиям. Востоковедение в католических странах одно, а в протестантских другое, но не надо это преувеличивать, как это преувеличивают борцы с колониализмом.
Разное отношение и к Китаю. В Америке сейчас очень много злого против Китая, но в основном картинку Китая в Америке формировали востоковеды, которые очень любили Китай, поэтому в основе лежит добрая картинка. Сейчас ее пытаются изменить, но, надеюсь, не изменят. Все очень зависит от того, где учились, у кого учились. Это всегда надо иметь в виду. У нас православная культура в основе и у нас не меньше, чем католики, преследовали ислам, но со своими аспектами.
На самом деле, надо знать все – детали, сложности, надо понимать, что все факторы в сложном мире функционируют, и они не должны быть причиной, для того чтобы что-то отвергать, нужно, чтобы был четкий анализ при каждой конкретной ситуации.
Вот сейчас ни один востоковед в западных странах не имеет право сказать что-то хорошее про Россию, а негосударственный может, на пенсии может. Пенсионеры к нам приезжают.
- В следующем году будет отмечаться 200-летие восстания декабристов – одного из важнейших событий в русской истории. Изменилась ли за эти годы его оценка? Эрмитаж что-то готовит?
- Оценка, конечно, меняется многократно, потому что и люди стали себя мерить по историческим событиям. И для одних декабристы – революционеры, молодцы, для других – предатели. Об этом надо размышлять.
Мы никаких больших мероприятий, громадных выставок по поводу декабристов не готовим. У нас будет много разных точечных мероприятий, потому что для размышления о декабристах есть много сюжетов. Есть Военная галерея героев 1812 года. Среди них был один из декабристов – Сергей Волконский, портрет которого сделали, но так и не поместили. Он был одним из тех декабристов, кто выжил. У нас есть его фотография, потому что он даже до времени фотографии дожил в Сибири.
Вторая история – у нас есть залы (Картинная галерея Эрмитажа), где император Николай I допрашивал декабристов. И мы знаем, что они все выдавали друг друга, все признавались, потому что ощущали себя предателями, они должны были чистосердечно раскаяться, во всяком случае не могли врать, поэтому всё Николаю рассказывали.
Третья история – один из героев Войны 1812 года Михаил Милорадович, убитый во время восстания выстрелом в спину. У нас хранится мундир, в котором он был. У нас даже президент Сербии приезжал на церемонию памяти Милорадовича.
Много разных историй, которые в последние годы нашими историками изучены очень хорошо, много вопросов, о которых можно поговорить, разные детали, связанные с декабристами, в этом и будет смысл – осветить всю сложность события. Не какие они были плохие или замечательные, а как раз эти маленькие детали – собирались или нет убить Николая и его семью те, кто ворвался в сад Зимнего дворца и так далее. Константиновский рубль, который был отчеканен с именем Константина, у нас хранится. Все эти истории, во-первых, углубляют историческое знание, а во-вторых, заставляют понимать, что это очень сложные вещи, четких положений нет. Это как с выставками из крымских музеев – есть точка зрения крымских музеев, а есть государства, у которого все это записано в реестр.
- Как Вы видите развитие Эрмитажа?
- Мы не музей, мы одно из высших достижений русской культуры. Эрмитаж – громадный корабль, который пробивает дорогу. Сейчас мы пробили дорогу, нам все подражают: система Большого Эрмитажа, Эрмитажный центр – теперь подобное во всем мире делают. Мы идем дальше – формируем новый культурный диалог между суверенными культурами в новой схеме: с одной стороны, это «Небесный Эрмитаж» (цифровая копия музея – ред.) и множество всяких фокусов, которые будут делаться с применением новейших технологий, с другой – максимальная помощь по горизонтальным связям, эрмитажные центры. Сейчас очень нужны по всему миру горизонтальные связи, причем уже не столько выставками. Это связи людей.
Наше великое достижение – реставрация. У нас реставрационные классы, сейчас обмен происходит с разными странами – реставраторы ездят в Китай, Оман, Сирию, другие страны. Это обмен музейным опытом, опытом универсального музея, потому что идею универсального музея надо распространять и распространять с новейшими технологиями, с обменами людей, чтобы они воспринимали опыт, воспитывали бы культурное самосознание и интернационализм одновременно.
- Как продвигается проект Музея геральдики?
- Есть Биржа – это здание Эрмитажа, которое будет неким дублером Зимнего дворца, потому что будет посвящено русской символике, русской славе, русской государственной истории. Там будет зал русской военной славы. Это зал, который будет неким слепком с нашего Георгиевского зала, в котором мы все время проводим церемонии. Напомню, что Эрмитаж возродил много церемоний, мы их проводим. Они будут проходить там. Зал будет украшен картинами, флагами и т.д. Вокруг будет музей – галереи геральдики, наград, музей русской гвардии, который переедет из Главного штаба. Все, что является гордостью России. То, на чем на самом деле надо воспитывать гордость и любовь к Родине.
Читайте другие материалы журнала «Международная жизнь» на нашем канале Яндекс.Дзен.
Подписывайтесь на наш Telegram – канал: https://t.me/interaffairs

 15:19 19.08.2024 •
15:19 19.08.2024 •