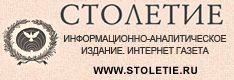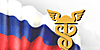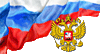В последний год тема альтернативной модели государственности для ближневосточного региона стала чрезвычайно популярной. Идеи разнообразных проектов на протяжении ХХ века появлялись довольно часто (в связи с созданием Палестинского государства, курдским вопросом, Третьей мировой теорией Муаммара Каддафи и др.), но занимали обычно маргинальное положение и почти никогда не доходили до воплощения в жизнь (вспомним демократический конфедерализм Абдуллы Оджалана). Однако стремительный подъем «Исламского государства» создает впечатление внезапного появления реальной альтернативы.
До 2013 г. ИГ, образовавшееся в 2006 г. в результате слияния одиннадцати отпочковавшихся от иракской «Аль-Каиды» группировок, было малоизвестно – численность организации в первые годы не превышала нескольких тысяч человек, в основном бывших солдат и офицеров из армии Саддама Хусейна. Ее деятельность в то время была направлена против американцев и нового руководства Ирака, проведшего жесткую люстрацию и вытеснившего из политического пространства баасистов и старую элиту.
Радикальная трансформация ординарной джихадистской группировки была связана, во-первых, с разгоранием сирийского конфликта, который, «перелившись» через границу, дестабилизировал обстановку в Ираке, а во-вторых, с приходом к власти в ИГ весной 2011 г. Абу Бакра аль-Багдади, взявшего курс на самофинансирование организации посредством грабежей, экспроприации имущества «неверных», рэкета, контрабанды и т.д. Широкую известность ИГ приобрело летом 2014 г., когда боевики захватили Мосул и начали активное наступление в Ираке и Сирии. Сегодня оно контролирует территорию в Сирии и Ираке, сравнимую по площади с Великобританией и с населением до 8 млн человек. В его рядах сражаются несколько десятков тысяч человек (по некоторым источникам – 80–100 тыс.) из разных стран, в том числе более 1,7 тыс. человек из России (по неофициальным данным – значительно больше).
Понятно, что вопрос о характере ИГ до сих пор открыт, хотя и существуют некоторые предпосылки для того, чтобы рассмотреть его именно в качестве государства, а не просто как новое издание джихадистских организаций. Однако наиболее важными остаются два вопроса: 1) что представляет собой проект, предлагаемый ИГ (если он есть), и 2) может ли ИГ эффективно разрешить ключевые проблемы государственности в арабских странах, то есть проблемы нациестроительства, преодолеть фрагментированность социумов и гармонизировать институциональное развитие?
Впрочем, даже если оно не решит этих проблем, но окажется успешным хотя бы в преодолении видимых проявлений очевидного сегодня в регионе кризиса государственности, его можно будет определить как временно успешный, несмотря на все варварство и жестокость.
Проект ИГ
Выдвигая собственный проект государствостроительства, ИГ продолжает салафитскую традицию призыва мусульманской общины вернуться к временам праведных халифов и пророка Мухаммада; притом что эта общая идея салафитов всегда пользовалась определенной популярностью в арабо-мусульманском мире, различные мыслители и религиозно-политические деятели интерпретировали ее по-разному.
В отличие от «Братьев-мусульман», тунисской «ан-Нахды», ХАМАСа и других исламистских организаций, пытающихся совместить исламские ценности с идеями национализма и демократии (напомним, что ХАМАС в свое время пришел к власти в ходе демократических выборов), ИГ, как и породившая его «Аль-Каида», занимает принципиально антимодернистские и антизападные позиции. Соответственно, анализ проекта ИГ предполагает обращение к модели раннемусульманской государственности как таковой.
Проблема в том, что государственность в арабо-мусульманской политической истории и культуре понимается двояко. С одной стороны, речь может идти о реальной государственности, существовавшей в регионе в доколониальный период. Она была порождена религиозным призывом пророка Мухаммада, арабо-мусульманскими завоеваниями VII–VIII веков и необходимостью контроля над завоеванными территориями. Амбивалентность происхождения сказывалась и на структуре, и на источниках легитимности, и на политической идентичности. Это было исламское государство для мусульман, основные институты которого установили пророк Мухаммад и праведные халифы, власть халифа имела религиозное обоснование, а немусульманское население (в основном иудеи и христиане), считаясь «покровительствуемым» (зимми), обладало собственной юрисдикцией и облагалось особыми налогами. В то же время государство являлось этнократическим: при Омейядах – арабским, при Аббасидах – арабо-персидским и арабо-тюркским и т.д. Его правители активно использовали исторические мифы для обоснования права на престол, опирались на трайбалистские и этнические группы. Помимо сочетания религиозно-идеологических и этно-племенных элементов реальную арабо-мусульманскую государственность отличало активное заимствование и преобразование управленческих практик покоренных и соседних народов (прежде всего Византии и Ирана). Наконец, институты (насколько о них можно говорить) имели, в общем-то, светский характер и использовали светские методы управления.
Последний тезис, конечно, означает не секулярность государства, а эмансипацию реальной политической власти от ее религиозных истоков. Примерно с X века (со времен Бувайхидов) аббасидский халиф сохранил за собой исключительную функцию легитимизации власти реальных правителей – сначала бувайхидских умара’ ал-умара’ (главнокомандующих), а затем сельджукских султанов.
Вместе с тем речь может идти и о той концепции исламской государственности, к которой собственно и обращается ИГ. Эта концепция, развивавшаяся в трудах мусульманских правоведов, не описывала политическую реальность и из нее не проистекала. Задача создававших ее мыслителей состояла не в том, чтобы научить правителя править лучше (для того существовал жанр «княжеских зерцал») либо объяснить философский феномен власти, а в том, чтобы описать, каким должно быть праведное государство, исходя из священных текстов ислама. Не случайно ключевой труд, посвященный исламской государственности – «Ал-ахкам ас-султанийа» («Властные установления») ал-Маварди – был написан только в XI веке, когда никакого единого халифата уже не существовало.
Сегодня можно выделить несколько основных элементов концепции исламской государственности, оказывающих наибольшее влияние на проект ИГ и объясняющих его отличия от идеи национального государства – умма [umma], имам [imam], даула [dawla], а также бай‘а [bay‘a] и джихад [jihad].
Прежде всего ИГ – не национальное государство, потому что умма в ее средневековом понимании – не нация. Как отмечает палестино-египетский мыслитель Тамим ал-Баргути, «физическое бытие индивидуумов называется уммой, если они представляют себя коллективом и если представление это ведет к тому, что они делают что-то иначе, чем все остальные». Таким образом, в отличие от нации в ее «биологическом» понимании умма не является природным феноменом. Однако она также не является и воображаемым сообществом, появившимся в результате социально-экономического развития общества – в отличие от «социального» понимания нации. Умма, предполагающая духовное или идейное родство, не может быть определена ни территорией расселения, ни многочисленностью (пророк Ибрахим изначально сам по себе составлял умму), ни своей политической организацией. Если национальное чувство требует обретения государственности, то умма нуждается в политическом оформлении исключительно из практической надобности, однако отсутствие государства не ведет к ее деградации или исчезновению.
Кроме того, умма – это община, следующая за имамом, функция которого принципиальным образом отличается от функции руководителя национального государства: «Имамат существует как замещение (ли-хилафат) пророчества для охранения религии и управления миром (ад-дунйа)», писал в XI веке ал-Маварди.
Имам (теоретически, в суннизме) не является ни сувереном, ни законодателем, ни исполнителем, ни судьей. Он, скорее, координатор, призванный следить за выполнением признанных сообществом богословов и правоведов интерпретаций священных текстов, администратор, а также учитель и пример для мусульман, следующих за ним по пути веры и таким образом и формирующих умму. Отсутствие имама ведет к ослаблению и неполноте уммы.
В политическом отношении ал-Маварди выделяет десять основных обязанностей имама, и так или иначе перечень соответствует всей суннитской традиции. Большинство из них, хотя и требуют политических действий, имеют религиозное обоснование или назначение: обеспечение религиозной законности, применение установленных Аллахом наказаний для защиты прав верующих, защита Обители ислама (Дар ал-ислам), борьба с отказавшимися принять ислам, взимание налогов (по установленным шариатом нормам), назначение на посты верующих и законопослушных людей, собственноручное управление уммой и защита веры. Помимо них есть две чисто административные обязанности – обеспечение приграничных областей и благоразумное определение доходов и расходов казны; и одна – чисто религиозная: поддержание религии.
В суннитской традиции имам не может быть избран, он получает власть либо по прямому указанию предшественника, либо по согласованному решению сообщества религиозных экспертов, а может захватить ее силой.
Хотя имам и является руководителем не государства – даула, а уммы, действует он все же в рамках первого. Впрочем, даула в его средневековом понимании – все же не совсем государство. Даула есть мирская организация уммы, получающая от нее легитимность. В классический период истории ислама, к которому и обращен творческий дух ИГ, даула означало прежде всего династию, но никогда территорию. Даула – образование изначально временное и довольно гибкое, оно нетерриториально, а суверенитет не является его характеристикой, потому что, принадлежа Аллаху, он делегируется Аллахом умме, и только от уммы передается имаму, а от него – правителям более низкого ранга. В результате даула представляет собой некую политию, или потестарную систему, в принципе многоуровневую и способную организовываться по сетевому принципу. Так, например, халифат Аббасидов представлял собой даула (он, кстати, и назывался не халифатом, а аббасидским даула или Обителью ислама), но точно так же даула были и входившие в него царства Тулунидов, Тахиридов и др., а Волжская Булгария, не имевшая с ним практически никаких реальных связей, рассматривалась Багдадом как часть этого даула, поскольку именно аббасидский халиф был источником ее легитимности.
В современном мире даула не узурпировано ИГ – в определенном смысле и подконтрольные сегодня «Хезболле» южные районы Ливана, и управляемые ХАМАС территории Палестины, и контролируемые кочевыми племенами внутренние пространства «большой» Сахары также представляют собой даула в средневековом понимании. Обладая значительной политической самостоятельностью, они, разумеется, ослабляют национальную государственность в регионе.
Чрезвычайно важным элементом государственности ИГ является бай‘а – клятва на верность, которую дают имаму отдельные социальные группы и индивидуумы. Именно посредством бай‘а обеспечивается связь между уммой и имамом и его реальный суверенитет. Институт бай‘а, кроме того, существует и в современных арабских монархиях, обеспечивая традиционную легитимность правителей.
Наконец, что касается джихада, то согласно унаследованным от «Аль-Каиды Двуречья» представлениям, описанным в их известном документе «Наше кредо и наша программа» и выдержанным в радикальной салафитской традиции, он понимается как вооруженная борьба с людьми, отказавшимися принять ислам, является личной обязанностью каждого мусульманина и одним из столпов веры (усул ад-дин), и соответственно отказ от него ведет к такфиру – обвинению в неверии.
Таким образом, предлагаемое ИГ политическое устройство a priori должно быть лишено некоторых слабостей существующей модели государственности. Так, теоретически (но не практически) у «Исламского государства» не может быть проблем с незавершенностью проекта нациестроительства, потому что оно отрицает саму идею нации. Не может у него быть и дефицита легитимности и суверенитета, потому что легитимность – от Аллаха, а суверенитет распространяется на всю мусульманскую умму. Что же касается институционального развития, фрагментированности общества и других проблем современных государств региона, то это уже вопросы не религиозной теории, а политической практики.
Реализация модели
Стремясь установить контроль над территориями, ИГ вынуждено обеспечивать лояльность местного населения и соответственно вести активную социальную политику (выплата зарплат, благотворительные акции, строительство объектов инфраструктуры, обеспечение правопорядка и т.д.). Тот факт, что ИГ приносит с собой пусть и очень жестокий, совершенно извращенный, но тем не менее порядок, обеспечивает ему поддержку населения, уставшего от безвластия и хаоса войны.
Социальная активность заставляет ИГ совершенствовать структуру и методы управления. Так, аль-Багдади был провозглашен халифом, у него есть два заместителя, ему подчиняется кабинет министров и правители двенадцати вилайетов. Руководство организации активно использует опыт выходцев из саддамовской элиты.
Вместе с тем в управленческой структуре значительное место занимают религиозные элементы: Консультативный совет (шура), проверяющий решения руководства на соответствие нормам шариата, а также шариатский суд и совет муфтиев. Многие вполне современные институты власти в ИГ получают религиозную интерпретацию – так, например, социальные службы управляются Департаментом мусульманских услуг и т.д. В конечном счете можно констатировать, что в процессе институционального оформления ИГ синтезирует элементы национального государства и исламской архаики, что придает ему неомодернистский характер.
Если в институциональном отношении такой синтез и позволяет выстроить некое подобие реальной государственности, то в других сферах он создает новые противоречия. Так, идея территориальной государственности (в Сирии и Ираке) естественным образом сочетается с детерриториальностью даула, ведь многие джихадистские группировки по всему миру объявили себя подданными халифа аль-Багдади и филиалами ИГ. Характер отношений между сирийско-иракским ИГ и его ответвлениями по всему миру не вполне ясен. Лни могут быть описаны и в парадигме отношений умма-даула, и совершенно по-западному – как франчайзинг.
Двойственность территориальной идентичности ИГ ведет в итоге к расколу организации на прагматиков, ориентированных на укрепление политического образования на ограниченной территории, и романтиков, стремящихся к бесконечной экспансии. Впрочем, раскол вряд ли может рассматриваться как фактор ослабления ИГ, потому что у него есть очевидная возможность экспорта романтиков по всему миру.
Столь же причудливо сочетается архаика и модерн в вопросах нациестроительства. С одной стороны, исламский эгалитаризм, идея единства уммы заставляет ИГ способствовать преодолению этно-племенной гетерогенности общества на контролируемых им территориях (разумеется, после уничтожения всех неверных). С другой стороны, решение проблемы через конфессионализм создает новые линии раскола. Все эти причудливые переплетения на вполне постмодернистский манер дополняются активной информационной деятельностью, направленной на распространение влияния ИГ в мире.
Таким образом, «Исламскому государству» сегодня удается решать проблему с внешними проявлениями кризиса государственности – восстановить институты и обновить социально-экономический контракт между обществом и государством, утвердить свой суверенитет на ограниченной территории и решить проблему границ. Вместе с тем очевидно, что ни одна из этих проблем не решена полностью, и не факт, что может быть решена в рамках выстраиваемой модели.
Так, созданные институты и экономический базис социального контракта при всей экзотичности могут быть выходом на время «джихада» и постоянной экспансии, однако для поддержания жизнедеятельности нормального государства их придется пересматривать. И здесь, конечно, есть определенная ирония истории, потому что в этом отношении игиловцам придется повторить путь Омейядов и вообще раннеисламской государственности, создание которой именно как государственности, а не как завоевательной политии было связано с прекращением экспансии во времена халифа Абд ал-Малика. В тот раз, как известно, неспособность перестроиться привела в конечном счете к Аббасидской революции и затем к дроблению Халифата.
Точно так же не вполне ясно сегодня практическое решение вопроса о суверенитете – бай‘а все же является довольно слабым инструментом его укрепления для частично модернизированных обществ. Понятно, что на первый взгляд ИГ сегодня удается контролировать определенную (и довольно большую) территорию, однако насколько глубоко и прочно оно ее контролирует, неизвестно. Тем более сомнительно утверждение о суверенитете, учитывая непризнанность государства мировым сообществом.
Наконец, что касается границ и территориально-административного устройства, то, конечно, сетевые структуры, франчайзинговые системы, внетерриториальность – все это звучит очень романтично. Однако на практике говорить об «Исламском государстве» в собственном смысле слова можно только на сирийско-иракской территории, что же до остальных, то там речь идет только об определенном брендировании, под которым каждый раз скрывается уникальная ситуация. Так, например, в Ливии «Исламское государство» в сущности представляет удобную форму самопрезентации и консолидации ряда малых племен. Да и единство основной зоны тоже вызывает множество сомнений, в том числе из-за иракского доминирования в руководстве ИГ.
Еще хуже дело обстоит с решением глубинных проблем государственности. Идея единой исламской нации может быть привлекательна лишь для некоторого количества пассионариев, в основном из западной исламской псевдоуммы, но она совершенно не учитывает существующие региональные идентичности, которые в реальных социальных практиках обычно оказываются важнее конфессиональных. Кроме того, собственно сирийско-иракское население вынуждено присоединиться к ИГ в силу ужасающих условий военного существования и просто отсутствия выбора. Точно так же и молодежь из многих арабских стран вступает в ИГ, руководствуясь не религиозными идеями, а из-за разочарованности в собственных государствах. «Здесь нет справедливости, нет свободы, нет будущего» – такие слова можно услышать от молодых людей бедняцких районов Туниса, решивших присоединиться к ИГ, где все это, с их точки зрения, есть. Свобода и справедливость в этом дискурсе понимаются специфически – как отсутствие унижений со стороны государства, неотчужденность от него.
Этим молодым людям представляется, что ИГ дает возможность преодоления общественно-политической фрагментированности – его элиты не узурпируют власть, они аутентичны. Однако на практике такая возможность достигается исключительно репрессиями и геноцидом социальных групп, а потребность в развитии, в укреплении суверенитета (если ИГ сохранится и при других «если») и институтов будет диктовать и укрепление репрессивного аппарата, оторванного от общества в еще большей мере, чем в других арабских странах. Так что и с преодолением фрагментированности очевидно возникнут проблемы.
Наконец, что касается институтов, то пока на территории ИГ наблюдается создание структур власти при полном вакууме институтов гражданских. Такая ситуация возможна исключительно на время войны.
И тем не менее, несмотря на очевидную слабость ИГ как проекта государственного строительства, для части жителей стран региона идея имеет особую привлекательность. По всей видимости, связана она прежде всего не с конфессиональным характером государства и, конечно, не с его жестокостью, а именно с упомянутой выше кажущейся аутентичностью ИГ.
Читайте другие материалы журнала «Международная жизнь» на нашем канале Яндекс.Дзен.
Подписывайтесь на наш Telegram – канал: https://t.me/interaffairs

 14:35 25.11.2015 •
14:35 25.11.2015 •