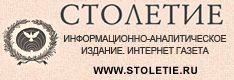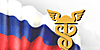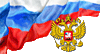Годовщина «болотных событий» не прошла незаметно. То есть она бы и прошла тропой забвения, не считая частных воспоминаний о белых ленточках и прочих непривычных для москвичей аксессуарах. Да на беду, декабрьские события 2011 года, заявившие себя едва ли не общенациональным триумфом рождения гражданского общества, оказались не востребованы россиянами.
Но не зря же нас приучили отчитываться по итогам года, и чем ближе к годовщине, тем обидней за несбывшиеся мечты. «Народ безмолвствует?» - тем хуже для него» - стало дежурным сарказмом части нашей интеллигенции. Для иных - просто скучно жить без событий планетарных, да что уж там, хотя бы без тех, что веселят и дразнят улицу.
Правда, в «скучные времена» история любит повторять себя в виде фарса.
О времени правления короля Луи-Филиппа французский поэт Альфонс Ламартин писал: «Франция скучает». На фоне скучающего общества революция, свергнувшая с трона короля Франции, стала полной неожиданностью и для двора, и для радикальных республиканцев. Так Великая французская революция повторила себя в виде фарса в июле «скучного» 1848 года. Гильотина, якобинцы, трагедия Робеспьера и Марата, кровавое сведение счетов со вчерашними соратниками, кипение политических страстей - все это осталось для Франции в XVIII веке. Сам повод, приведший к революции, выглядит столь прозаично, что при других обстоятельствах и последствиях его посчитали бы совершенно пустяковым. Власти запретили проведение политического банкета оппозиции и, сами того не ведая, спустили пусковой механизм, который привел к цепи необратимых для нее событий. Надо сказать, что банкеты в столице и политические клубы в провинции стали для антироялистов единственной возможной формой протеста, после того как правительство запретило проведение манифестаций и собраний на городских улицах.
На первый взгляд решение отделить политическую демагогию от зоны обитания городского плебса имело все резоны. По свидетельству русского агента во Франции, в течение полугода банкеты и клубы собрали на свои заседания не более 20 тыс. человек. Правда, у французского венценосца были и другие внутренние враги: экономические неурядицы, крупные займы и, как следствие, - финансовый кризис. Однако у короля имелось достаточно сторонников в обеих палатах парламента, тогда как республиканцы были разобщены и делились на партии и группы по степени радикальности. К тому же и личность Луи-Филиппа была вовсе не бесцветной, а характер короля - далеко не трусливый.
По оценкам Кювийе-Флери, воспитателя сына Луи-Филиппа, «это был хороший политик, человек серьезный и положительный, очень активный и дальновидный, стремившийся править согласно законам и говоривший людям: «Живите спокойно, трудитесь, торгуйте, обогащайтесь, уважайте свободу и не потрясайте основ государства». Король, говорящий подобным языком, требующий от народа только того, чтобы народ был счастлив, и не предлагающий ему никаких экстраординарных зрелищ, никаких эмоций - и это легитимный король свободной нации?! И подобный режим длился 18 лет?! Не слишком ли?!»
Удивительно, но, оказывается, в Санкт-Петербурге понимали угрозу подобного положения. Как пишет специалист по истории российско-французских отношений доктор наук Наталья Таньшина: «В России прекрасно понимали, к чему ведет такая «скучная» жизнь».
Во Всеподданнейшем отчете Третьего отделения за 1839 год отмечалось: «Продолжительный мир и продолжительная война, две крайности, производят в людях одинаковые последствия: колебания умов, жажду перемен положения, а это самое производит толки, из которых образуется мнение общее».
Ко времени революции у Николая I были свои «глаза и уши» в Париже, причем очень наблюдательные и чуткие. Их обладателем был весьма одаренный дипломат, поверенный в делах России во Франции Николай Киселев, чьи донесения хранятся в Архиве внешней политики Российской империи. До последнего времени они были практически вне интереса историков и только сейчас введены в научный оборот Таньшиной.
Киселев становится очевидцем событий 22 февраля, когда в акции протеста после запрета банкета участвовали представители многих слоев общества, включая «левых» депутатов и пэров, рабочих Парижа.
На первых порах, когда настрой манифестантов определяли люди, пришедшие «скорее из любопытства, нежели из-за чувства открытой ненависти», все проходило относительно спокойно и без особых эксцессов. Никто не ожидал серьезных последствий манифестации.
События следующих дней, по свидетельству Киселева, «никто не мог предвидеть: врасплох были застигнуты даже те, кто неожиданно оказался у кормила власти». Далее все развивалось по классическим лекалам революций.
С самого начала «сознательные» оппозиционеры теряют контроль над толпой, которую сами спровоцировали «со свойственным им шарлатанским популизмом». В итоге, как пишет российский дипломат, «весь парижский сброд смешался с прочими слоями населения» и помимо его воли стал задавать тон «революции» и определять политическую повестку дня.
«Шумиха была спровоцирована исключительно сборищем сорванцов, бесчисленных в этом городе с более чем миллионным населением, которые были готовы на все и которые от безделья развлекают себя всяческими… выходками, оказываясь там, где пахнет возмущениями и беспорядками». При этом признанные «вожаки и члены демократических обществ» оказались не более чем «пассивными наблюдателями».
Неожиданно для всех, друзей и врагов, Луи-Филипп отправляет в отставку верное ему правительство Гизо, и парижская улица буквально взрывается, воспринимая этот шаг короля как явную слабость, которая одновременно повергает в уныние его сторонников. Последующее бегство Луи-Филиппа в Великобританию ставит точку в истории его династии во Франции.
В те дни Киселев не без горечи пишет в Санкт-Петербург: «Неоспоримым является тот факт, что на фоне самого внушительного министерского большинства в обеих палатах и самого очевидного согласия между королем и министрами палаты, министры и король были сметены всего лишь одним дуновением бунта, управляемого несколькими газетами и демократическими обществами».
Тревогу у радикалов вызывала лишь ситуация в провинции, в глазах которой «какие-то столичные сорванцы и бродяги распоряжаются без их ведома их судьбами».
Временное правительство для обеспечения левого большинства в Учредительном собрании было вынуждено включить весь свой административный ресурс, посылая в каждый из департаментов полномочного комиссара. Тем временем вооруженные банды рыскали по стране, наводя страх и сея панику среди благонамеренных граждан, которые теперь с благодарностью вспоминали «скучные дни и годы».
Ситуация была настолько неуправляемой, что Киселев, вопреки указаниям Николая I, отказался от отъезда из охваченной бунтом страны в интересах обеспечения безопасности русских подданных во Франции.
Надо сказать, опасения эти были небеспочвенны. Толпа, несмотря на заверения министров Временного правительства, смутно бредила идеями экспорта революции, этим хмельным угаром Парижской коммуны. Царская Россия была в их представлении самым желанным, самым притягательным и одновременно самым мощным бастионом на пути к «свободе, равенству и братству» в Европе. Но этот роковой час для России еще не пробил…
Как и предсказывал Киселев, «новая республика» просуществовала недолго, запятнав себя террором против простых французов, масштабы которого были немыслимы во времена Луи-Филиппа. Революции не бывают бескровными, в противном случае они иначе называются.
«В дни июньского восстания 1848 года, - пишет Таньшина, - республиканцы жестоко расправились с представителями того самого доведенного до отчаяния народа, от имени и во благо которого всегда совершаются революции. Во время восстания погибло около 11 тыс. рабочих, столько же было брошено в тюрьмы или выслано, а 1,5 тысячи - расстреляны без суда».
Эмигрировавшая в Великобританию из Парижа русская княгиня Дарья Ливен писала из своего вынужденного убежища с искренней скорбью о Франции, где она прожила несколько лет: «Перейдут от диктатуры к хаосу, чтобы вновь оказаться во власти диктатуры… Горячечный жар или смирительная рубашка - но что в итоге?.. Даже рабочие предместий говорят: «С тех пор, как богатые исчезли, мы стали еще беднее - нам нужен король».