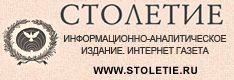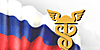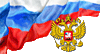К началу XXI века в мировой политике сложилась ситуация, которую многие западные авторы поспешили охарактеризовать термином «новый» и при этом «однополярный» мировой порядок. После распада биполярного миропорядка Соединенные Штаты действительно оказались единственной сверхдержавой современного мира. Причем сверхдержавный статус США обусловлен подавляющим превосходством Америки либо ее уверенным лидерством в целом ряде областей. Так, США располагают самым емким в мире внутренним рынком, самым крупным и самым диверсифицированным научно-технологическим потенциалом. В политическом плане американское влияние в различных странах мира сохраняется за счет лидирующей роли США в межправительственных организациях, а также за счет формирования устойчивой сети транснациональных акторов (включая ТНК, НГО и т.н. GONGO, т.е. формально независимые, но созданные по инициативе и/или при поддержке правительства организации). В военном смысле о преобладающей мощи США свидетельствует не только наличие огромного ядерного арсенала, современных вооруженных сил, оснащенных первоклассной техникой и располагающих хорошо подготовленным персоналом, но и тот факт, что в настоящее время на их долю приходится около половины мировых военных расходов и более половины расходов на военные НИОКР и закупку вооружений. Помимо сказанного, США выступают единственной страной в мире, обладающей такими внушительными экспедиционными возможностями, что способны при необходимости осуществить проекцию силы практически в любом районе мира.
Однако глобальное доминирование во многих аспектах невозможно обеспечить только «жесткой силой», то есть военным или экономическим превосходством. Как показывает опыт последних десятилетий, преобладающую экономическую и военную мощь не всегда можно конвертировать в политический контроль. Без «мягкой силы» это практически невозможно. В конце XX века тенденции глобализации и стремление политических элит ряда стран Запада воспользоваться объективными процессами, чтобы трансформировать систему международных отношений по приемлемому для них сценарию формирования однополярного мира, породили серьезную проблему, вставшую на пути сторонников униполярного мирового устройства. Это проблема острого дефицита легитимности в действиях основных мировых акторов. Причем речь шла о дефиците легитимности как со стороны крупнейших государств - лидеров мировой системы (в лице стран Запада, и прежде всего США), властные притязания которых выходили за привычные территориальные границы, так и обретающих силу и вес в процессе глобализации новых транснациональных акторов (ТНК, НГО и т.д.). В условиях отсутствия легитимности было все сложнее находить консенсусные решения тех или иных мировых и региональных проблем. В итоге не дефицит силы, а именно отсутствие легитимности спровоцировали кризис однополярности, особенно после того как США и «коалиция желающих» вторглись в Ирак в 2003 году. Тогда и обнаружилось, что достичь консенсуса даже в рамках стран, составляющих ядро униполя, - задача непростая.
Права человека и становление нового мирового порядка
Проблематика прав человека играла особую роль в борьбе за формирование «нового мирового порядка». С точки зрения западных авторов, государства, которые делают режим уважения прав человека программной основой своей политики, находят новые источники для ее легитимации. Мораль, а не насилие становится на рубеже веков основным источником легитимизации властных притязаний стран Запада. Если есть мораль, мораль прав человека, то есть и право на насилие (включая военные интервенции с гуманитарными по виду целями), причем в глобальных масштабах.
Установка на соблюдение прав человека изначально была космополитична и универсальна. Она должна была составить Minima Moralia, то есть своего рода моральный кодекс трансформируемого международного права. Права человека выступают такими «фундаментальными ценностями, которые устанавливают нормы, нарушать которые не имеет права ни один деятель, будь то представитель правительства, государства или гражданской ассоциации»1. Как бы ни обосновывалась эта глобальная мораль прав человека, она должна была стать легитимирующей основой нового мирового порядка и действий доминирующих в мировой политике держав. «Соответствие критериям» соблюдения прав человека выступало ключевым индикатором, основным принципом для инклюзии (включенности) тех или иных политических сообществ и государств в круг «цивилизованных стран» и даже основанием для доступа к иностранным инвестициям и технологиям. Государства и страны, которые институционально и идеологически усвоили режим соблюдения основных прав человека, как бы сигнализировали о том, что им можно доверять. Это служило своеобразным маркером, определителем «свой - чужой» в динамичном и быстро трансформирующемся мире, обусловливающим включенность в мировую систему «глобального управления», и привлекало крайне чувствительных инвесторов и финансовые потоки.
Учитывая новую формулу власти в транснационализирующемся мире, которая во многом обратна общепринятой (не участие, а целенаправленное неучастие является формой ее проявления), отказ от инвестиций, преднамеренное бездействие выступает эффективным средством принуждения государств, политических партий, профсоюзов и т.д. к коррекции поведения, безусловному конформизму и неолиберальной адаптации (причем не только в качестве нарратива, но и в политической практике). Глобальное доминирование основывается не столько на силе и принуждении, сколько на их эквиваленте, выражающемся в «возможности выхода» (exitoption, термин введен в обиход Хиршманом и Беком). Главной угрозой становится не «завоевание» или «вторжение», а уход или исключение - «умышленное не-завоевание», «не-инвестирование». Подобная власть нелегитимна, нетранспарентна, но она обладает способностью реально трансформировать доминирующие правила игры на государственном уровне и в международном пространстве. Проблемы легитимности, кризис легитимности в глобальном масштабе нарастают с расширением этой власти. Отсюда - обратная сторона неолиберальной политики состоит в прямой противоположности неолиберальному кредо: для продвижения транснационального рыночного регулирования в глобальном масштабе необходим сильный центр либо сильное лидирующее государство в ядре системы2.
Режим непременного соблюдения прав человека давал моральное обоснование новому властному измерению мировой политики, не знающей границ, делал весь мир открытым для активного вмешательства со стороны стран Запада. Причем набор защищаемых прав определялся западными же странами в рамках осуществления политики «избирательной легитимности». Переворачивая формулу Клаузевица, моральный императив отныне допускает применение насилия и даже не исключает войны - как продолжения правозащитной морали иными средствами.
Формирование нового мирового порядка немыслимо без особого чувства миссии и широкого распространения идеологии мессианизма в странах, составляющих его центр, несущую ось. Мессианистские настроения существуют на Западе прежде всего в отношении идей распространения демократии. При этом упускается из вида один важный момент. По словам нобелевского лауреата по экономике А.Сена, в мире утвердилось понимание, что в результате расширения пространства свободы и утверждения демократии возникают условия, при которых «не бывает голода»3. И именно это обстоятельство делает идеалы свободы и демократии столь популярными среди масс населения в странах так называемого «третьего мира».
Сегодня в глобальном масштабе возникают новые линии разлома и разобщения стран и народов. Происходит глобализация неравенства. Наиболее тревожной тенденцией в этом смысле становится появление так называемого «глубокого Юга», или стран «четвертого мира», которое свидетельствует о реальной опасности полной деградации целого ряда государств, способных вообще утратить возможность к поддержанию основных своих функций в результате последовательного сокращения бюджетных расходов на элементарное воспроизводство социальной инфраструктуры и населения. Парадокс в том, что при всем своем планетарном характере глобальная экономика (во всяком случае, на современном этапе ее развития) стимулирует увеличение числа государств- и регионов-«изолятов», выключенных из процессов глобализации. И распространению демократии это отнюдь не способствует.
Демократический мессианизм официального Вашингтона и европейских правительств, безусловно, впечатляет. То обстоятельство, что большинство американцев и европейцев разделяют представления элиты о ценности свободы и демократии, несомненно, играет на руку сторонникам униполя. Однако ни американцы, ни европейцы отнюдь не исповедуют настроений героической жертвенности. Они хотят быть бенефициантами нового мирового порядка и вовсе не преисполнены идеями цивилизаторского бремени или особой глобальной ответственности. Как только новый мировой порядок потребовал для своего утверждения и поддержания слишком больших жертв, уровень его поддержки со стороны граждан стран Запада резко снизился. 1990-е годы были периодом создания относительно «дешевого» и рационально управляемого из единого центра мироустройства. 11 сентября 2001 года этому был положен конец.
Принципы свободы и прав человека, исповедуемые странами Запада, как ни парадоксально, стали еще одним препятствием для становления нового униполярного мирового порядка. На современном этапе дискуссии о демократии и правах человека оказываются сконцентрированы уже не на «свободе, равенстве и братстве», а на несколько иных проблемах. На Западе осуществление прав и свобод на деле привело к релятивизации представлений о таких основополагающих и «неизменных» с традиционной точки зрения институтах, как идентичность, гендер, сексуальность, брак, семья и т.д. В современных Соединенных Штатах и Европе все эти представления находятся под вопросом, активно пересматриваются и выступают предметом дискуссий именно для того, чтобы соответствовать «современным требованиям свободы». Вовне США это способно провоцировать все новые и новые культурно-цивилизационные противостояния, создавать новые линии разломов и подогревать антизападные настроения, делегитимизируя притязания США и союзников на мировое лидерство.
Таким образом, представления о том, что эксплуатация гуманитарной проблематики однозначно играет на руку странам Запада, представляются несколько односторонними и преувеличенными. А прокламируемые как аксиомы утверждения о том, что на гуманитарном поле Россия является заведомо слабым игроком, на самом деле являются в лучшем случае теоремами и нуждаются в дополнительных доказательствах и рациональной верификации. На сегодняшний момент создается впечатление, что в свете драматичного развития событий на Северном Кавказе начиная с середины 1990-х годов на этом поле просто никто особенно и не пытался сыграть. Возможно, и напрасно, учитывая, что времена меняются. И общие тенденции трансформации мировой политики ныне не столь однозначны.
Человеческая безопасность на рубеже веков
На фоне морально-политических изысканий стран Запада в последние полтора-два десятилетия оказалась актуализирована и проблематика повышения эффективности российской внешней политики, улучшения имиджа страны за рубежом. При этом нельзя не заметить очевидного дефицита идей по преодолению сложившихся негативных стереотипов. Этому есть рациональное объяснение. На самом деле трансформация образа новой России в мире тесно связана не только с проблемами нашей традиционной имиджевой немощи, но и с острым дефицитом так называемой «мягкой силы», то есть способности несиловым способом, без внешнего принуждения осуществлять влияние на других акторов системы международных отношений за счет привлекательности генерируемых идей и образов, аттрактивности модели социального и политического развития, креативности элиты и т.д. Комплекс вопросов, связанный с развитием потенциала «мягкой силы», только в последнее время оказался в фокусе внимания представителей отечественного экспертного сообщества. Специалисты продолжают дискутировать о том, возможно ли в принципе сознательно управлять потенциалом «мягкой силы» и насколько эффективны построенные на ее применении инструменты влияния4. Дискуссии на этот счет далеки от завершения.
В российских реалиях вопрос состоит в том, за счет чего можно восполнить очевидный недостаток «мягкой силы» и активизировать потенциал отечественных НГО в реализации внешнеполитического курса страны. Думается, одним из факторов, который способен хоть в какой-то мере повлиять на увеличение «мягкой силы» России на международной арене, является не генерирование все новых и новых глобальных инициатив, а более гибкое использование (прежде всего российскими НГО типа «Федерации мира и согласия» (бывший Фонд мира) и других «профильных» институций) уже имеющихся, но недостаточно разработанных и зачастую игнорируемых у нас концептуальных инструментов. К их числу относится и концепция «человеческой безопасности».
В принципе, положения концепции human security неплохо корреспондируются с необходимостью скорректировать имидж страны и увеличить потенциал «мягкой силы» России в мире. Ясно, что для этого инициативы во внешней политике РФ должны быть адресованы широкому спектру акторов (включая НГО, международные и транснациональные организации). Должна быть четко проявлена ориентация на многостороннее сотрудничество, поскольку многие угрозы и вызовы в современном мире транснациональны по своей природе. Ну и выдвигаемые идеи должны быть универсальны по своей сути, то есть обращены к самой широкой международной аудитории. Концепция «человеческой безопасности» отвечает всем этим критериям. Разумеется, не со всеми положениями концепции human security можно согласиться, однако как раз в рамках широкой международной дискуссии можно поставить вопрос об их релевантности и способствовать распространению российской точки зрения на соответствующую проблематику.
Специфичность положений концепции human security связана с контекстом, в котором она возникла и бытовала до последнего времени. Концепция возникла в 90-х годах прошлого века. Впервые о новых стандартах человеческой безопасности в стремительно меняющемся после окончания холодной войны мире заговорил в 1992 году тогдашний Генеральный секретарь ООН Б.Бутрос-Гали. Он акцентировал внимание на том, что противостояние сверхдержав осталось в прошлом, но от таких проблем, как вооруженные конфликты, экономические кризисы, голод, болезни, человечеству избавиться так и не удалось. И в этой связи необходима новая повестка дня в сфере безопасности, которая касалась бы каждого человека, его безопасности от насилия и угроз и его защищенности от разрушительных стихийных бедствий, экологических и социальных проблем. В результате в более или менее целостном виде концепция была озвучена в 1994 году под эгидой ООН в рамках Программы развития. Доклад о развитии человеческого потенциала впервые актуализировал проблематику необходимости освобождения человека от «нужды» и «страха» («freedom from want» and «freedom from fear»). Эта тематика получила дальнейшее развитие на Копенгагенском саммите по социальному развитию (1995 г.) и в ходе целого ряда других мероприятий под эгидой ООН.
По классификации ООН человеческая безопасность включает в себя семь основных разделов - экономическую безопасность, продовольственную безопасность, безопасность здоровья, экологическую безопасность, личную безопасность, безопасность сообществ и политическую безопасность.
Под экономической безопасностью здесь понимается обеспечение достойного уровня жизни работающих индивидов и/или наличие инструментов социальной помощи в критических ситуациях (эрозия человеческого капитала, связанная с безработицей, разрушением инфраструктуры и распадом экономики тех или иных стран и т.д.). Продовольственная безопасность означает физический доступ людей к продовольствию и их экономическую способность быть эффективными потребителями продовольственных ресурсов. Причем основная проблема на сегодняшний день видится многим экспертам не в недостатке продовольствия как такового (в мире благодаря результатам «зеленой революции» производится относительно избыточное количество продуктов питания), а в проблемах доступа к нему, в проблемах его распределения и в покупательной способности населения прежде всего в развивающихся странах мира. Безопасность здоровья означает обеспечение доступа людей к качественной медицинской помощи, но не только. Это еще и здоровый образ жизни, защита от последствий загрязнения окружающей среды, от инфекций и паразитов (две последние позиции ежегодно уносят в мире 17 млн. человеческих жизней). Экологическая безопасность предполагает защиту человека от угроз, связанных с природными катаклизмами и рукотворным загрязнением окружающей среды. Личная безопасность исходит из необходимости защиты индивида от всех видов физического насилия, включая насилие со стороны государственных органов, иностранных государств, криминальных и военизированных негосударственных структур. Безопасность сообществ предполагает защиту индивидов от угрозы потери традиционных, групповых ценностей, идентичности и от насилия по групповому принципу - этническому, расовому, конфессиональному или иному. Обеспечение безопасности сообществ, таким образом, предполагает и защиту прав различных меньшинств. Под политической безопасностью понимается гарантия основных политических и гражданских прав личности.
Вслед за ооновской Программой развития и некоторыми НГО целый ряд политиков и общественных деятелей подхватил тезис о том, что «жесткой» безопасностью государств и международной безопасностью ныне отнюдь не исчерпывается повестка дня мировой политики. Хотя сухая статистика свидетельствовала на протяжении 1990-х годов о снижении числа вооруженных конфликтов в мире и конфликтологи с удовлетворением констатировали гармонизацию международной обстановки после окончания холодной войны, ряд авторов отмечал противоположную тенденцию применительно к безопасности конкретного человека. Новые вызовы и угрозы безопасности (в том числе экологические, биологические, связанные с распространением наркотиков, международного терроризма и т.д.), незащищенность индивидов в ходе нередко весьма брутальных внутренних конфликтов ставили в международную повестку дня вопрос о поиске новых подходов к обеспечению безопасности. В центре этих подходов должен находиться конкретный человек. С точки зрения авторов данной концепции, необходимо прежде всего оценивать «человеческие издержки» стратегий, которые имеют целью продвинуть национальную безопасность того или иного государства или международную безопасность. В этом смысле человеческая безопасность не всегда совпадает с государственной, а то и прямо ей противопоставляется. Неслучайно концепция получила наибольшее распространение в таких странах, как Канада, Япония, Норвегия, Дания, ряд европейских стран, где вопросы национальной безопасности после окончания холодной войны явно отошли на второй план.
Таким образом, проблематика человеческой безопасности оказалась тесно увязана с вопросами развития, защитой прав человека в самой широкой их интерпретации и с проблематикой гуманитарного интервенционизма. Последнее направление развития концепции оказалось особенно востребовано на рубеже XX-XXI веков. Очевидный перекос в сторону гуманитарного интервенционизма отчетливо проявился в рамках работы Международной комиссии по государственному суверенитету и гуманитарному вмешательству (2001 г. - International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS). В те годы концепция гуманитарной безопасности (или безопасности человека) фактически легла в основу теоретико-философского и правового обоснования гуманитарных интервенций, что нашло свое отражение в концепциях «ограниченного суверенитета» и «ответственности по защите» (responsibility to protect)5. Было особо отмечено, что государства несут «ответственность» за защиту широкого набора гражданских, политических и социальных прав людей. И в случае несоответствия предложенным комиссией стандартам (прежде всего предотвращения массовых жертв среди населения) государства не могут уже ссылаться на свой суверенитет в противодействии интервенционистским практикам. Ну а дополнительный импульс возникновению подобного «интервенционистского» крена был придан в публикациях и выступлениях К.Аннана6.
Подобный перекос в развитии концепции human security был, разумеется, неслучаен и оказался тесно связан с распространением интервенционистских практик западных держав в последнем десятилетии XX века. В самой концепции «гуманитарного интервенционизма» был заложен целый ряд противоречий. С одной стороны, «гуманитарный интервенционизм» требовал более широкой международной легитимации и твердого морального основания осуществления вмешательства в дела других государств. С другой - как бы изымал творцов интервенционистской политики из международно-правового контекста. Ведь имплицитно предполагалось, что объектами интервенции будут не только «несостоявшиеся» государства, но и многочисленные «страны с переходной экономикой» и государства «третьего мира». А субъектами будут выступать исключительно развитые страны Запада во главе с США.
Новый этап концептуальной эволюции гуманитарной безопасности и российские национальные интересы
Гуманистический пафос концепции human security, таким образом, очевиден. Но не менее явной была и политическая подоплека ее утверждения в международной повестке дня. На рубеже XX-XXI веков концепция получала активную поддержку в США, поскольку позволяла внятно в этическом и политическом смысле обосновать значимость американских интервенционистских практик на Балканах и в иных регионах мира. Генсек ООН К.Аннан также счел ее весьма своевременной на фоне «миллениума», представленного в качестве важного рубежа в истории человечества, - вступая в XXI век, было важно обозначить новые приоритеты и новые правила игры на мировой арене и примирить концепцию «гуманитарной интервенции» с текущей политической практикой ведущих мировых держав.
Однако вскоре после 11 сентября 2001 года США в значительной мере утратили интерес к концепции, и далее она приобрела собственную логику развития в рамках академических исследований (школа «исследований мира»), в ходе выявления внешнеполитических приоритетов таких государств, как Канада, Япония, Скандинавские страны. Более того, косвенным образом концепция «человеческой безопасности» ударила и по Соединенным Штатам. В период борьбы с последствиями урагана Катрина (август 2005 г.) уже сами США подверглись критике со стороны многих европейских НГО и СМИ за игнорирование принципов и неспособность поддержать стандарты «человеческой безопасности».
Существующие интерпретации концепции human security крайне разнообразны7. Целый ряд стран очень своеобразно расставляет акценты в понимании того, что есть «человеческая безопасность». Канада, например, активно рассматривает в рамках концепции проблематику борьбы с терроризмом, контрпартизанские действия в Ираке и Афганистане, и в особенности (канадский внешнеполитический «конек» последних десятилетий) вопросы борьбы за запрещение противопехотных мин (которые рассматриваются как исключительно антигуманное оружие, наносящее колоссальный сопутствующий ущерб и сохраняющее свою деструктивную мощь на протяжении многих лет после окончания конфликтов).
Это обстоятельство создает для российских структур возможность выступать не просто реципиентом некоего набора концептуальных положений, но полноправным участником дискуссии по проблематике сущности и основных направлений «человеческой безопасности». Если и не для официальных лиц, то хотя бы для НГО (например, российской «Федерации мира и согласия» и иных профильных организаций) открывается широкое поле интерпретаций проблематики «человеческой безопасности».
При этом содержательных вопросов по поводу основных принципов концепции «человеческой безопасности» немало. Насколько оправданно противопоставление безопасности индивида безопасности государства, свойственное подавляющему большинству концептуализаций проблематики human security? Ведь очевидно, что наибольшая степень безопасности обеспечивается в рамках эффективных государственных структур современных социальных и правовых государств. Кто и как определяет допустимость интервенционистских практик в каждом конкретном случае? Международно-правовой механизм явно не отработан. Эффективность действий ООН нередко подвергается сомнению, но ничего более внятного в организационном и международно-политическом плане (не говоря уже о легитимности) на сегодняшний день просто не существует. Каким образом и в рамках каких политических институтов и структур наиболее эффективно может быть оказана гуманитарная помощь?
И как решить проблему «имплементации», то есть такого применения принципов гуманитарного интервенционизма, которое исключит нанесение миротворцами «непропорционального ущерба», как это случилось, например, в Югославии?
Готовых ответов нет. Идет дискуссия на национальных и международном уровнях. Игнорирование имеющих место дебатов оставляет нас в роли раздраженного зрителя, несогласного с ходом дискуссии, временами брюзжащего в стороне, но неспособного на нее реально повлиять. На сегодняшний день представляется очевидной настоятельная необходимость подключения к этим дебатам российской общественности (в лице НГО) и представителей экспертного сообщества.
Бытует мнение, что у нас слишком много проблем с обеспечением стандартов «человеческой безопасности» у себя дома, и потому бесперспективно пытаться разыгрывать эту карту на международной арене. Действительно, Россия в последние десятилетия довольно бледно выглядит в рамках многочисленных исследований качества человеческого капитала, индексов человеческого развития и т.д. Это связано с относительным упадком таких жизненно важных для нормального функционирования общества и воспроизводства человека сфер деятельности, как образование и медицина (в особенности их среднего уровня), и с колоссальными демографическими проблемами страны. Очевидна связь с коренными трансформациями, произошедшими в рамках российского общества, коммерциализацией самых разных сторон жизни общества. Это напрямую связано с кровавыми вооруженными конфликтами на территории страны.
Однако реальная целостная картина ситуации в России не столь однозначна, и в общем нет оснований вести речь о существенной или тем более необратимой деградации человеческого капитала. У России были (установленные еще в советский период) и даже поныне остались некоторые высокие стандарты экономической и социальной безопасности населения. Очевиден прогресс в сфере обеспечения продовольственной безопасности граждан (не путать с продовольственной безопасностью страны, о которой пекутся некоторые наиболее ретивые «государственники»). Есть позитивные подвижки в области защиты прав человека. И в принципе этот список можно продолжать. Так что нет никаких объективных причин для того, чтобы избегать подключения к дискуссии. В особенности если оно произойдет посредством активизации российских НГО.
В отличие от государственных структур, ограниченных в своей деятельности целым рядом формальностей и условностей, общественные организации могут более свободно оперировать на поле производства «новых смыслов» и трансформации концепции «человеческой безопасности». Что будет пониматься в мире и в рамках ооновских структур под понятием «человеческая безопасность» (учитывая отсутствие консенсуса по поводу определения) и чему будет отдаваться предпочтение в рамках данной концептуализации - борьбе за запрет противопехотных мин и за права меньшинств или повышению эффективности предупреждения наркотрафика, предотвращению актов терроризма и безвизовым поездкам граждан, - во многом будет зависеть от убедительности и весомости предлагаемых нами аргументов. Равно как будет зависеть от этого увеличение потенциала «мягкой силы» Российской Федерации в мире.
1Held D. Cosmopolitanism. Cambridge (Mass.), 2002. P. 5.
2См.: Бек У. Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма. Новая всемирно-политическая экономия. М., 2007.
3См.: Сен А. Развитие как свобода. М., 2004.
4См.: Nye J.S. Soft Power: The Means to Success in the World Politics. N.Y., 2004.
5См.: Доклад комиссии с детальным обоснованием мотивов и легитимных поводов для гуманитарной интервенции - The Responsibility to Protect: The Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty. New York: International Development Research Centre Publications, 2001.
6Evans G. The Responsibility to Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and For All. Washington DC: Brookings Institution Press, 2008.
7См.: Human Security in Theory and Practice. N.Y., 2009; Ungoverned Spaces: Alternatives to State Authority in an Era of Softened Sovereignty / Сlunan A. and Trinkunas H. (eds.). Stanford: Stanford University Press, 2010; Thomas C. Global Governance, Development and Human Security: Exploring the Links // Third World Quarterly. 2001. Vol. 22. No. 2.