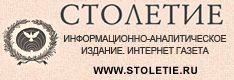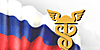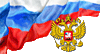Перед огромным, необозримым пространством прошедшей войны человеческая память невольно робеет, дробя его на события, периоды, этапы. В своем трагическом величии она, несомненно, открывалась тысячам из ее участников, но далеко не все сумели передать непосредственное чувство войны новым послевоенным поколениям. Если же обращаться, как принято говорить, к сухим фактам и документам, то многое из того, что открывается нам в последнее время, не просто проливает дополнительный свет на уже известную историческую картину, но нередко меняет наше отношение, подходы и самый смысл минувшего. Вероятно, только соединенным усилиям, коллективной памяти человечества под силу приблизить нас к рубежу, с которого можно будет обозреть панораму этой необъятной войны.
Ноябрь 1943 года. На фотографии, обошедшей весь мир, - британский премьер и его министр иностранных дел Энтони Иден на Тегеранской конференции. Рядом с ними - другие участники событий. Сэр Уинстон сидит, взгляд направлен прямо в объектив, неподвижное, тяжелое, но вместе с тем и решительное выражение лица передает характерную, несколько мрачную харизму его личности. Перед вами человек, идущий до конца. Невольно вспоминается, как в самые отчаянные дни битвы за Англию он говорил, что, даже если Гитлер оккупирует Британские острова, английская армия ни за что не сложит оружие, но продолжит войну с территории Соединенных Штатов.
Взглянув на Идена, стоящего за спиной Черчилля, любой мог бы сказать: вот истинный англичанин.
Прямая и гордая осанка, высокий, благородный лоб и взгляд, романтически устремленный в даль, где уже брезжит заря победы. Трудно найти две более контрастные фигуры. Черчилль на фото похож на лоцмана, не хватает разве что трубки, но по сути он и был лоцманом, на плечи которого легло бремя спасения Англии в минуты смертельной опасности. И, чуждый романтизма, этот «лоцман» всегда глядел прямо перед собой, где скрывались рифы, мели и мины, угрожавшие его кораблю.
В самом начале войны антикоммунизм был романтическим искушением Черчилля, ибо с ним сэра Уинстона связывала политическая молодость. Это искушение, судя по мемуарам, «лоцман» преодолел. Произошло это, правда, раньше, чем прозвучало известное обращение Черчилля по Би-би-си в самый день нападения Гитлера на Советский Союз. Незадолго до этого, во время беседы в узком кругу Черчилль, считавший вторжение немцев в Россию неизбежным, заметил, что Гитлер «рассчитывает заручиться поддержкой капиталистов и правых в Англии и США. Гитлер, однако, ошибается в своих расчетах. Мы окажем России всемерную помощь... У меня лишь одна цель - уничтожение Гитлера, и это сильно упрощает мою жизнь. Если бы Гитлер вторгся в ад, я, по меньшей мере, благожелательно отозвался бы о сатане в Палате общин».
Черчилль, будучи человеком двух войн, прекрасно помнил, что сделала Россия для спасения Франции в Первую мировую, и с огромным напряжением наблюдал за усилиями по сближению Москвы и Берлина, увенчанными советско-германским пактом о ненападении 23 августа 1939 года. «Лоцман» окажется, конечно, не глупее фюрера, который искал стратегического союза со Сталиным против Англии, закрывая глаза на всякие «измы». Гитлер поглощал жизненные пространства и стратегические ресурсы для Великой Германии, а Геббельс со своим оркестром от увертюры до финала подчинял пропаганду только этой задаче. Такой подход «сильно упрощал жизнь» фюреру.
По свидетельству Молотова, в личных беседах Гитлер от критики большевиков воздерживался. Молотов вспоминает любопытный анекдот из хроники посещения Риббентропом Сталина в то время, когда советско-германское сотрудничество, казалось, набирало обороты. Как обычно, следовали тосты. «Сталин неожиданно предложил: «Выпьем за нового антикоминтерновца Сталина!» - издевательски так сказал и незаметно подмигнул... Тот [Риббентроп] бросился звонить в Берлин, докладывать Гитлеру в восторге. Гитлер ему отвечает: «Мой гениальный министр иностранных дел!» Гитлер никогда не понимал марксистов», - заключает Молотов.
Как признает в своих мемуарах Черчилль, судьба Англии решалась в ноябре 1940 года во время визита советского министра иностранных дел в Берлин, когда Гитлер упорно склонял Москву присоединиться к «оси» и заменить пакт о ненападении своего рода стратегическим альянсом. Если учесть, что уже в октябре 1940 года германский Генеральный штаб разрабатывал на начало лета 1941 года планы блицкрига против СССР, то настойчивые предложения Гитлера, касающиеся союзничества, были, по сути дела, формой ультиматума: кто не с нами, тот против нас. «Лоцман» это понимал. В своих мемуарах он пишет: «Переговоры приняли форму проекта предложений Германии о присоединении Советской России к пакту трех держав за счет английских интересов на Востоке. И если бы Сталин принял этот план, то события, возможно, на время приняли бы иной оборот. Гитлер мог в любой момент отложить свои планы вторжения в Россию. Трудно себе даже представить, что произошло бы в результате вооруженного союза между великими континентальными империями...»
Черчилль признает, что в то время не располагал информацией о переговорах Молотова с Гитлером и Риббентропом в Берлине. Обратимся к стенографической записи воспоминаний Молотова.
«Гитлер: «Вот вам надо иметь выход к теплым морям. Иран, Индия - вот ваша перспектива».
<...> Для меня, - говорит Молотов, - это несерьезный разговор, а он с пафосом доказывает, как нужно ликвидировать Англию, и толкает нас в Индию через Иран.
<...> Хотел втащить нас в авантюру, а уж когда мы завязнем там, на юге, ему легче станет, там мы от него будем зависеть, когда Англия будет воевать с нами. Надо было быть слишком наивным, чтобы не понимать этого». Ни Молотов, ни Сталин наивными не были. Перед Москвой реально и грозно вставал выбор: война с могущественной, покорившей континентальную Европу Германией или с теснимой со всех сторон, по сути, блокированной и подвергшейся массированным воздушным налетам Англией. Кто бы ни стоял у руля власти в то время и какими бы субъективными ни были подходы Сталина - Молотова, Россия не пошла на сговор с фашистской Германией против Англии. Жребий был брошен, хотя в Кремле и не предполагали, что спираль карающей за несговорчивость агрессии будет раскручиваться Берлином столь стремительно. Зато это отчетливо понимал Черчилль.
В начале апреля 1941 года «лоцман» посылает через своего посла в Москве личное послание Сталину с предостережением о нависшей германской угрозе. Не без досадных для британского премьера проволочек оно, наконец, доходит до адресата. В послании Черчилль сообщает о данных английской разведки относительно переброски в Польшу из Румынии к границам России трех из пяти ударных танковых соединений рейха. Москва ответила молчанием. Быть может, припоминали провал Московской конференции, когда делегации Англии и Франции свели на нет усилия по созданию антигитлеровского блока, а, может быть, в Кремле вспоминали Мюнхен... Позже Черчилль с сожалением напишет: «Если бы у меня была прямая связь со Сталиным, я, возможно, сумел бы предотвратить уничтожение столь большой части его авиации на земле». Вряд ли. Уже после войны, когда Сталину напомнили о послании Черчилля, он ответил: «Мне не нужно было никаких предупреждений. Я знал, эта война начнется, но думал, что мне удастся выиграть еще полгода». Молотов был категоричней: «Да можно ли было Черчиллю верить в этом деле? Он был заинтересован как можно быстрее столкнуть нас с немцами, как же иначе!» Но не только опасение быть втянутыми в войну с Германией до срока сковывало Сталина и его министра. Против Черчилля работал в глазах Москвы его «послужной список» яростного антикоммуниста, закоренелого и бескомпромиссного врага первой в мире социалистической республики.
Когда Черчиллю в 8 часов утра сообщили о нападении Германии на Россию, он был краток: «Передайте Би-би-си, что я выступаю сегодня в 9 часов вечера». С коротким перерывом на завтрак он в течение целого дня готовил свое выступление и завершил его, как говорится, под самый эфир, без двадцати девять.
При всей решимости проводить курс на военно-политический союз с Россией перед Черчиллем стояла непростая задача. Его услышат в России, но поверят ли? Как воспримут его речь доминионы и подвластные британской короне колонии, где вот-вот начнутся сражения с немцами и итальянцами?
Наконец, как все же обойти острые углы в отношениях с Советами и как быть с собственным образом антикоммуниста? В истории Черчилль хотел оставаться Черчиллем. Радиовыступление 22 июня 1941 года далось ему непросто. И все же этот прожженный политик и прагматик сделал в тот момент единственно правильный выбор. «Сила, масса, мужество и выносливость матушки-России должны быть брошены на весы», - напишет он позже, в мемуарах, а теперь эти слова - «матушка-Россия», кажется, дали ключ ко всей его речи... Черчилль, в глазах многих, говорил искренне: он думал в тот момент, что Бог через Россию хранит Англию.
«Нацистскому режиму присущи худшие черты коммунизма. У него нет никаких устоев и принципов, кроме алчности и стремления к расовому господству. По своей жестокости и яростной агрессивности он превосходит все формы человеческой испорченности. За последние
25 лет никто не был более последовательным противником коммунизма, чем я. Я не возьму обратно ни одного слова, которое я сказал о нем. Но все это бледнеет перед развертывающимся сейчас зрелищем. Я вижу русских солдат, стоящих на пороге своей родной земли, охраняющих поля, которые их отцы обрабатывали с незапамятных времен. Я вижу их охраняющими свои дома, где их матери и жены молятся, - да, ибо бывают времена, когда молятся все, - о безопасности своих близких, о возвращении своего кормильца, своего защитника и опоры. Я вижу десятки тысяч русских деревень, где средства к существованию с таким трудом вырываются у земли, но где существуют человеческие радости, где смеются девушки и играют дети. Я вижу, как на все это надвигается гнусная нацистская военная машина с ее щеголеватыми, бряцающими шпорами прусскими офицерами, с ее искусными агентами, только что усмирившими и связавшими по рукам и ногам десяток стран.
За всем этим шумом и громом я вижу кучку злодеев, которые планируют, организуют и навлекают на человечество эту лавину бедствий...»
Черчилль не просто умел говорить, у него был особый дар слова, яркого и образного, позволяющий рисовать убедительную и эмоциональную картину происходящего, и тут же, отдав дань чувству, он умел быстро перейти к ясному и четкому языку политической логики. Казалось, его речь действовала по принципу контрастного душа, не давая слушателю ослабить внимание. «Не мне говорить о действиях Соединенных Штатов, - продолжал Черчилль, - но я скажу, что, если Гитлер воображает, будто его нападение на Советскую Россию вызовет малейшее расхождение в целях или ослабление усилий великих демократий, которые решили уничтожить его, то он глубоко заблуждается.
Он хочет уничтожить русскую державу, потому что в случае успеха надеется отозвать с Востока главные силы своей армии и авиации и бросить их на наши острова, которые, как ему известно, он должен завоевать, или же ему придется понести кару за свои преступления. Его вторжение в Россию - это лишь прелюдия к попытке вторжения на Британские острова».
«Правда» и другие газеты в Москве, разумеется с купюрами, опубликовали радиообращение Черчилля. Но Москва по-прежнему молчала и не спешила бросаться в объятия будущих союзников. Это весьма беспокоило «лоцмана». Понадобилось еще одно личное обращение к Сталину, чтобы 19 июля советский посол в Лондоне Иван Майский вручил премьер-министру письмо лично от Сталина. Сталин сразу же ставит вопрос об открытии Второго фронта на севере Франции и в Арктике. «Я представляю, - пишет он, - трудность создания такого фронта, но мне кажется, что, несмотря на трудности, его следовало бы создать не только ради нашего общего дела, но и ради интересов самой Англии». Черчилль в целой серии посланий доказывает, что столь масштабную операцию по высадке десанта осуществить невозможно. Достаточного количества транспортных и специальных судов, подавляющего превосходства в воздухе (этих главных залогов успеха любой десантной операции) у Англии не было. По этой же причине Германия, потрепав, но не разгромив британский военно-воздушный флот, не рискнула пересечь Ла-Манш и высадиться у меловых скал Дувра или где-нибудь еще на побережье Южной Англии. Черчилль утверждал, что, настаивая на открытии Второго фронта, Россия как великая сухопутная держава не понимала, что собой представляет широкомасштабная десантно-морская операция. Здесь бывший Первый лорд Адмиралтейства заблуждался. «В 1942 году я был участником всех переговоров по Второму фронту, - вспоминает Молотов, - и я первый не верил, что они это могут сделать. Я был спокоен и понимал, что это совершенно для них невозможная вещь. Но, во-первых, такое требование нам было политически необходимо, а во-вторых, из них надо было выжимать все. И Сталин тоже не верил, я в этом не сомневаюсь. А требовать надо было! И для своего же народа надо. Люди же ждут, какая-нибудь помощь еще будет или нет? Для нас их бумажка имела громадное политическое значение. Ободряла, а это тогда много значило.
Черчилль приехал и стал говорить, что вот они не могут, а я вижу, что Сталин очень спокойно к этому отнесся. Понимал, что это невозможно. Но ему нужна была эта самая бумажка».
Молотов, правда, считал, что 1943 год был реальным сроком высадки союзников во Франции, но «День Д» наступил только утром 6 июня 1944 года. К этому времени, как отмечают американские историки, «война вступила в новую эру, и Черчилль, глядя на Европу, одним глазом следил за отступающими немцами, другим - за наступающими русскими». Англия была ближе к Европе, и «лоцман» переживал европейские события гораздо острее, чем его партнер в Вашингтоне. В секретной переписке Черчилля и Рузвельта последний неоднократно высказывал неудовольствие по поводу переговоров британского премьера со Сталиным и Молотовым о послевоенном разделе сфер влияния в Европе, в частности о разделе Балкан и уступке Румынии Советскому Союзу в обмен на английское влияние в Греции. Однако Черчилль упорно вел с Москвой переговоры о разделе Европы. Черчилль даже поддерживал Тито, не опасаясь его коммунистических взглядов, и только Польша была яблоком раздора между Лондоном и Москвой. «Лоцман» не забывал, что «Англия превыше всего», помнил он и фразу, ставшую афоризмом: «У Англии нет постоянных союзников, а только постоянные интересы». Война продолжала обескровливать и истощать ресурсы Соединенного Королевства, а Рузвельт не торопился предлагать Лондону свою помощь. Два полюса силы - богатая Америка и колоссальная военная мощь СССР, разворачивающаяся на глазах Черчилля в Восточной и Южной Европе, ставили его перед трудным выбором. Сейчас кажется немыслимым, чтобы бывший яростный антикоммунист делил военно-политические приоритеты в Европе за одним столом с тем, кого иначе как «диктатором» он не называл. На что же рассчитывал Черчилль? Его интерес к проблеме Европы, как отмечают американские издатели переписки Рузвельта и Черчилля, носил прежде всего прагматический характер и лишь во вторую очередь - идеологический. Удачный для «лоцмана», при гарантиях России, раздел сфер влияния в Европе был, может быть, последним шансом не идти на поклон к дяде Сэму и сохранить пошатнувшуюся мощь Британской империи.
«А Рузвельт верил в доллары, - рассуждал Молотов. - Не то что больше ни во что, но он считал, что они настолько богаты, а мы настолько бедны и настолько будем ослаблены, что мы к ним придем. <...> Когда от них пол-Европы отошло, они очнулись». Рузвельт ревниво наблюдал, как Черчилль пытается утвердить британский авторитет в оставшейся «пол-Европе», и поэтому решительно воспрепятствовал вмешательству Лондона во внутренние дела капитулировавшей Италии. Потерпели провал и попытки Лондона собрать урожай за счет промышленности Германии. Черчилль поздно осознал выгоды предложения американского министра финансов Моргентау о ликвидации германской промышленности и превращении ее в сугубо аграрную страну с развитым животноводством. Этот план лопнул как мыльный пузырь, вызвав столь бурное возмущение оппозиции, что от него пришлось поспешно отказаться. Кризис в Греции, которую Сталин «уступил» Англии в обмен на Румынию, заставил Рузвельта и Черчилля обменяться резкими посланиями. Американский президент, не одобрявший бесконтрольное хозяйничанье англичан в Греции, резко отнесся к жестокому подавлению там коммунистического восстания. Еще раньше англо-американским союзникам преподнес сюрприз де Голль. Он отказал Эйзенхауэру в праве обратиться к французам за поддержкой союзнической армии в Европе и не поставил свою подпись на денежных знаках, которые администрация союзников хотела ввести в освобожденной Франции. Не удалось договориться со Сталиным и о дальнейшей судьбе Польши. Но последний гвоздь в идею Черчилля поднять престиж и экономику Англии за счет послевоенного передела Европы был вбит неожиданным приходом к власти левых сил в Румынии.
Вряд ли Черчилль обратил бы на это особое внимание, имей он возможность приобрести для своей страны, понесшей немалые жертвы в борьбе с фашизмом, жизненное пространство за Ла-Маншем. В 1972 году Молотов не переставал удивляться: «Черчилль - один из руководителей победы, и до сих пор не могу дать себе отчет, как могло случиться, что он в 1945 году провалился на выборах».
Конечно, интересы истощенной войной Британии были для «лоцмана» выше идей декларации об освобождении народов Европы, но только в том случае, если интересы Англии в послевоенной Европе имели бы твердые гарантии. Черчилль не мог слышать разговора между Сталиным и Молотовым, проходившего в кулуарах Ялтинской конференции. Молотов предостерегал Сталина насчет того, что американский проект декларации «что-то уж чересчур», ведь в нем шла речь о праве народов на определение своего политического будущего. На это Сталин ответил: «Мы можем выполнять потом, по-своему, Дело в соотношении сил». Соотношение сил было не в пользу Черчилля.
Линия разграничения Европы на сферы влияния и компетенций определялась в большей мере военно-силовым, а не дипломатическим путем, и здесь Лондон не мог играть первую скрипку. В стенографической записи бесед Молотова об этом сказано весьма точно: «Армия хорошо помогала дипломатам. Если бы она так не помогала, никакие бы дипломаты не смогли!..»
Призыв Черчилля в Фултоне в 1946 году был обращен к «англоязычным народам». Остальная Европа, «обманувшая» его надежды, выводилась за скобки. Ей, пораженной бациллами коммунизма, нужен поводырь, им и будет обновленный, более тесный англо-американский союз, открывающий эру новых, «особых отношений» между Англией и США. «Лоцман» повел свой корабль за океан, туда, где Атлантический союз сулил Англии не столь славное, но зато вполне определенное будущее. Трумэн был так напуган, что речь Черчилля в Америке будет расценена как согласованный вызов Запада Советской России, что поторопился оправдаться перед Сталиным.
Каких-нибудь пять лет отделяют выступление Черчилля по Би-би-си, положившее основание военному союзу Англии и России, от Фултона. В 1946-м вновь, как в первое время существования Советской России, СССР станет для него врагом. Но еще долгие годы в отношении к России британский патриотизм Черчилля будет уживаться с британским чувством объективности. Ни один государственный деятель англосаксонского мира не скажет и не напишет столько слов, исполненных восхищения и искренности, о стойкости и мужестве «матушки-России» и ее ратном подвиге в той необъятной войне, сколько сказал и написал Черчилль. И это будет той правдой, которая от него не отнимется. Потому что «когда окончится война великанов, начнутся войны пигмеев».