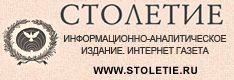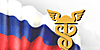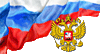ПРОЦЕСС СТАНОВЛЕНИЯ независимых государств, возникших в результате распада Советского Союза, предсказуемо выдвинул во главу угла проблемы национально-политической самоидентификации вчерашних союзных республик. Менее предсказуемой - с учетом инициативной роли ельцинской России в самороспуске советской империи и заверений, звучавших в 1991 году в Беловежской пуще, - стала набирающая силу в ряде постсоветских государств тенденция выстраивать концепции своей национальной истории в духе коренного пересмотра совместного опыта за счет бывшего "старшего брата".
Из учебников истории можно, как выясняется, вычеркнуть объективные оценки роли России в формировании территориального и этнического ядра Украины с XVII по XX век, спасения единоверной Грузии от угрозы персидской и турецкой ассимиляции. Можно "забыть", к примеру, каким образом оказались в составе современной Латвии Курляндия, Украины - Крым, да и в целом Правобережье, из каких когда-то польских, прусских или белорусских земель (кстати, в соответствии с пресловутым пактом Молотова - Риббентропа и секретным протоколом к нему, осужденным Съездом народных депутатов) Сталин и последующие руководители Советского Союза сконструировали Литву в ее нынешних границах, включая передачу ей столицы и в целом Виленского края, ранее отторгнутого у литовцев Польшей. Трудно, но можно, оказывается, предъявить после этого России счет за "оккупацию" Литвы, уравнять советскую символику с нацистской в Латвии, возвести в ранг национальных героев Мазепу и Шухевича, провозгласить полуграмотного казацкого атамана Орлика, прятавшегося после Полтавы в Константинополе, автором первой демократической конституции Украины (Запорожской Сечи), пытаться представить повальный голод 1932-1933 годов "голодомором", геноцидом исключительно украинского народа.
Понятно, что формирование собственной государственности тесно сопряжено с развитием национального самосознания, предполагающим преодоление идейных стереотипов советского и досоветского времени, осмысление, а в необходимых случаях переосмысление, общего прошлого применительно к меняющимся историческим условиям. Тревожно другое: естественный процесс самоидентификации новых независимых государств нередко осуществляется по лекалам времен холодной войны, сводясь к попыткам представить Россию в качестве имманентно агрессивной, экспансионистской державы, насильственно присоединившей смежные территории и попиравшей права, культуру и традиции народов ее национальных окраин. В результате одни стереотипы подменяются другими, не менее избитыми, а их авторы превращаются в заложников ими же созданных иллюзий.
Между тем строить сегодняшний день и будущее собственного народа на скользкой основе разрушения веками складывавшихся опорных точек коллективного самосознания рискованно и крайне недальновидно. И дело не только в том, что за мифотворчеством такого рода всегда или почти всегда скрывается политический эгоизм новых властных и имущественных элит, по определению неспособных на этапе первоначального накопления капитала руководствоваться в своих действиях категориями общественного интереса и вследствие этого стремящихся переключить внимание общества с реальных проблем (передел собственности, задевающий интересы широких групп населения) на мнимые. Гораздо серьезнее то, что попытки консолидировать общество на основе продвижения политически мотивированных мифологем, сводящих весь комплекс сложнейших проблем, встающих перед молодыми независимыми государствами, к "имперским амбициям" бывшей метрополии, рано или поздно приводят к тому, что мы начинаем смотреть друг на друга сквозь прорезь прицела.
Показательно в этом смысле, что наибольшее развитие процесс перелицовки истории в соответствии с сиюминутными и потому сомнительными политическими конъюнктурами получил в странах, унаследовавших от советской эпохи латентные или находящиеся в острой фазе национально-этнические конфликты. При оценке этого феномена недостаточно говорить только об эксцессах агрессивного национализма или несовпадении традиционных ареалов расселения национальных меньшинств с новым государственным делением постсоветского пространства. Административные границы, в одночасье превратившиеся в межгосударственные, также нуждаются в легитимизации не только на уровне подписания двусторонних договоров, но и коллективного осмысления закономерностей изменившейся геополитики. Имеют ли бывшие советские республики моральное право входить в НАТО в тех же границах, в которых они существовали в составе СССР? Если имеют, то как в этом случае быть с принципом неделимости безопасности? Как реально обеспечить принципы территориальной целостности и суверенитета в условиях крайне сложного положения, в котором оказались около 30 млн. этнических русских, не по своей воле оставшихся за пределами России?
На эти вопросы нет легких ответов, но замалчивание их опасно вдвойне. Недавний кризис вокруг Южной Осетии показал, что постсоветский мир подошел к критической черте. Под Цхинвалом сошлись в противостоянии не только танки и "грады". Пришли в лобовое столкновение незрелые, импортированные из-за океана представления о том, как должен выстраиваться постсоветский мир, и жесткие реалии национального самоопределения. Чем раньше мы поймем, что собственную свободу и национальные интересы невозможно построить на игнорировании свободы и интересов других, тем менее рискуем окончательно погрязнуть в коммунальных склоках и утратить контроль над собственной судьбой, став статистами в весьма серьезных региональных и глобальных процессах.
Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы увидеть, что эпицентр геополитической турбулентности смещается из Ирака и бывшей Югославии на Кавказ и в Причерноморье, ближе к Ирану и стратегическим запасам нефти и газа. С НАТО или без него регион ждут трудные времена. В этих условиях выработке адекватного понимания существа сложнейших задач сегодняшнего дня, в равной мере важного для всех постсоветских государств, способствовало бы (вполне возможно, в решающей степени) коллективное осмысление уроков общего прошлого. На этой основе можно было бы и попытаться договориться, пока не поздно, о принципах взаимоотношений на переходный период, исключающих диктат, использование силы, попытки обеспечить собственную безопасность за счет других.
Задача архитрудная, но, думается, реальная - при условии, что научное сообщество и дипломаты-практики объединят усилия для концептуального осмысления общей, сквозной логики становления и развития внешней политики многонационального Российского государства. Объективный, творческий анализ уроков прошлого и противодействие на этой основе конъюнктурной политизации истории выдвигаются в разряд наиболее актуальных. Это отметил на июльском совещании в МИД России Президент Д.А.Медведев.
С учетом этого хотел бы предложить (тезисно, в порядке постановки вопроса) некоторые подходы к данной теме.
Начать придется с констатации очевидного. Становление и развитие внешней политики России в имперский и постимперский периоды происходили в тесной органической взаимосвязи с формированием европейской, а затем глобальной системы международных отношений, более того - в возраставшей степени определялось этой взаимосвязью. В геополитическом смысле с распадом Советского Союза в 1991 году завершился длительный цикл новой и новейшей истории (за его исходную точку, с известной долей условности, было бы логично принять Вестфальский мир 1648 г.), в течение которого Россия, а затем Советский Союз приняли активнейшее, временами определяющее участие в формировании политической карты современного мира.
Почему все же 1648 год? Дело в том, что Вестфальский мир вошел в историю Европы как рубежная, знаковая веха. Подписав 24 октября 1648 года Мюнстерский и Оснабрюкский трактаты, государства Европы не просто положили конец войнам Контрреформации. Впервые Европа продемонстрировала стремление обеспечить коллективную безопасность на основе комплекса общеприемлемых международно-правовых норм. Как политико-дипломатическая система, базировавшаяся на равновесии интересов ее основных гарантов - габсбургской Австрии и Франции Бурбонов, - Вестфальский мир оказался недолговечным. Уже в первой четверти XVIII века в результате Войны за Испанское наследство и Северной войны на западной и северной периферии Вестфальской системы сформировались утрехтская и ганноверская "подсистемы" с функцией обеспечения стабильности на континенте в условиях постоянно менявшегося соотношения сил. Семилетняя война 1756-1763 годов подвела черту под Вестфальской системой, хотя вестфальские гарантии германским государствам оказывались периодически востребованными до Венского конгресса и даже до объединения Германии в 1871 году.
Гораздо более устойчивыми оказались разработанные в Вестфалии нормы международного общения, принципы урегулирования конфликтов. Сформулировав примат "силы права" над "правом силы", утвердив принцип декларативного признания "наций-государств", Вестфальский мир на долгие годы определил содержание и вектор развития внешнеполитических процессов на континенте, в том числе в Восточной Европе. Кроме того, окончательно учредив институт постоянных дипломатических представительств, Вестфальский мир стал, по выражению Александра I на Венском конгрессе, первым "кодексом современной дипломатии". В этом смысле его значение сравнимо с такими вехами, как Венский, Парижский и Берлинский конгрессы XIX века, Версальская и Ялтинско-Потсдамская системы, завершившие мировые войны, Общеевропейское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки в 1975 году.
Подписание Вестфальского мира в значительной мере предопределило и историческую судьбу России. По справедливому замечанию французского историка А.Рамбо, участники Вестфальского конгресса были "повергнуты в изумление", когда шведская королева Христина настояла на упоминании в тексте Оснабрюкского договора царя Алексея Михайловича в качестве гаранта Вестфальской системы как "союзника Швеции" по Столбовскому миру 1617 года. Такая реакция становится понятной, если вспомнить, что в неофициальном списке европейских государств, упоминавшихся в Мюнстерском и Оснабрюкском договорах, Россия стояла на предпоследнем, 49-м месте, пропустив после себя только Трансильванию.
Между тем тот факт, что задачи геополитического уровня встали в практическую плоскость в эпоху царствования Алексея Михайловича, представляется совсем не случайным. К этому времени основы многонационального Российского государства были в значительной мере созданы. Начавшееся движение к рынкам по всем азимутам расширило внешнеполитические горизонты России. В 1648, "вестфальском", году, через 100 лет после покорения Ермаком Сибири, Семен Дежнев открыл пролив, разъединяющий Азию с Америкой, прошел в Тихий океан. К 1654 году относится направление первого русского посольства в Китай. В 1659 году, приняв присягу грузинского царя Теймураза, Москва, опасавшаяся ранее устанавливать отношения с вассалами дружественной Персии, кардинально изменила характер своей кавказской политики. Как результат, менялся весь контекст жизненного уклада московской жизни, ментальность русского человека. Без особых натяжек можно проследить и связь (разумеется, косвенную) Контрреформационного движения в Европе с Никоновским расколом.
Решающую и, как представляется, далеко не во всех еще аспектах оцененную роль в закреплении европейского направления в качестве главного вектора внешней политики Русского государства явилось воссоединение Украины с Россией в соответствии с решением Земского собора 1 октября 1653 года, одобренным Переяславской радой 8 января 1654 года. В жестких реалиях поствестфальской эпохи - через нескончаемые турецкие войны, политический цинизм разделов Польши - свою самостийность и этнические границы Украина могла обрести только под крылом России, а не католической Польши и тем более не мусульманской Османской империи, вплоть до конца XVIII века не снимавшей претензий на украинскую Подолию.
Дипломатическое обеспечение воссоединения Украины с Россией впервые потребовало соединения усилий российской и украинской дипломатии. Несмотря на сложнейшие перипетии после смерти Хмельницкого и подписания Гадячского договора, русским и украинским дипломатам удалось достаточно эффективно использовать конъюнктуру в Европе, в том числе прямые контакты с гарантами Вестфальского мира, для успешного решения национальных задач русского и украинского народов. Впервые в истории отечественной дипломатии Андрусовскому перемирию, завершившему в 1667 году русско-польскую войну, был придан характер общеевропейского акта, поскольку в случае безуспешности дальнейших переговоров о "вечном мире" предполагалось "призвать государей христианских за посредников". По словам польского историка З.Вуйчика, по своей политической значимости Андрусовский договор стоял в одном ряду с важнейшими международными договорами Европы того времени, фиксируя вместе с ними новую расстановку сил на континенте.
Взаимное сближение России и Европы стало одним из элементов этой "новой расстановки сил". Во многом оно было обусловлено возраставшей востребованностью экономической и военной мощи, политического влияния России в рамках складывавшейся системы международных отношений в Европе.
Не углубляясь в историю вопроса, скажем только, что ко второй половине XVII века сформировались три уровня этой востребованности:
- геополитический, предопределенный естественным движением Русского государства с Волжского водного рубежа на старый Днепровский. Имея национальную, временами националистическую мотивацию ("собирание русских земель", "возвращение на пределы Олеговы и Святославовы"), этот процесс в своей основе был объективно направлен на восстановление этнических ареалов расселения восточнославянских народов.
Отсюда - значительный конфликтный потенциал, противоречивая природа взаимодействия России и Европы. На различных этапах европейские государства или группы государств были заинтересованы в использовании военно-политических и сырьевых ресурсов России для реализации совпадающих целей (сдерживания турок, Швеции на Балтике в период Северной войны, амбиций Вены в отношении Дунайских княжеств и выхода к Адриатике). Однако когда интересы России и великих европейских держав расходились, а это неизбежно происходило после того, как интересовавшие Европу задачи оказывались выполненными (классический пример - дипломатическая предыстория Крымской войны), срабатывал коллективный рефлекс сдерживания сильного конкурента (примеры последнего времени: Балканы, Кавказ и Центральная Азия, в том числе в контексте борьбы с международным терроризмом);
- экономический, связанный не только с борьбой "морских держав" (Англии, Голландии, Ганзейской лиги, Дании) за доступ через северные и балтийские порты к рынкам сбыта и источникам сырья и сельхозпродукции в России, но и возможностями транзитной торговли со странами Востока через волжский речной путь, Каспий, позднее - черноморские порты (с подключением предреволюционной Франции). Это базисный уровень, во многом определявший сценарий политических событий на геополитическом пространстве. Наиболее яркий пример - сложные перипетии Восточного вопроса в XVIII-XIX веках, диктовавшиеся стремлением Англии и Франции защитить свою левантийскую торговлю от выхода России через Черноморские проливы в Восточное Средиземноморье. По той же схеме развивались англо-русские противоречия на Среднем, русско-японские - на Дальнем Востоке;
- религиозно-цивилизационный. Стремление правящих кругов России к восприятию европейской культуры, бытовых навыков развивалось в постоянном конфликте с европейским культуртрегерством и католическим миссионерством. Устойчивое взаимное недоверие между православием и католицизмом (в меньшей степени - протестантскими конфессиями) способствовало накоплению конфликтного потенциала и в более широком плане - между западной и российской (евразийской) моделями государственного и социально-политического устройства. Вопрос о правах религиозных меньшинств в Речи Посполитой стал в XVIII веке поводом к первому разделу Польши, межконфессиональное соперничество на Святой земле в XIX веке (вопрос о ключах к храму Рождества в Вифлееме) - к началу Крымской войны. В XX веке продвижение западных подходов к тематике прав человека сыграло решающую роль в определении исхода холодной войны.
Очень непростой характер вхождения России в сферу европейской политики был предопределен тем обстоятельством, что система поствестфальских гарантий, а следовательно, и распространения общеприменимых правовых понятий покрывала только пространство Центральной Европы (преимущественно германских государств). На периферии "вестфальского пространства" бушевали войны: за Испанское (1701-1714 гг.), Польское (1733-1735 гг.) и Австрийское (1740-1748 гг.) наследство. Политическая карта Европы рождалась в муках. В середине столетия континент потрясла общеевропейская Семилетняя война (1756-1763 гг.), первый глобальный конфликт Нового времени (военные действий велись не только в Европе, но и Америке, а также Индии, на морях и океанах). Феодальная Европа в борьбе уступала место Европе буржуазной, в которой интерес наций-государств начинал определять границы и утверждать принципы и нормы взаимоотношений.
На востоке и юго-востоке Европы - от отвоеванных Петром у Швеции Лифляндии и Эстляндии до балканских владений Турции - сформировалась обширная "res nullis" ("ничья земля"), своеобразная "периферия Вестфалия", где новые правовые нормы в силу целого ряда объективных причин пока не действовали. Этот-то район острого противоборства трех империй - австро-венгерской, турецкой и российской (с периодическим подключением Пруссии и "морских держав" - Англии и Голландии) - и стал на два века сферой преимущественного приложения военных и дипломатических усилий России, а со временем - и ее геополитической ответственности. Реализовалась она через борьбу за пространство, войны, в которых мы воевали, разумеется, не за отвлеченные, а собственные интересы. Это, с одной стороны, способствовало глубокому вовлечению России в европейские, а со временем - и мировые дела, а с другой - формировало стереотипы восприятия России как потенциального агрессора, варварской, цивилизационно чуждой Европе страны, отягощенной инстинктом имперской экспансии. Как результат, накапливались взаимные претензии, периодически выливавшиеся в конфликты.
Применительно к XVIII столетию речь шла о преодолении так называемого "Восточного барьера" - Османская империя, Польша, Швеция, - исторически сложившегося в рамках французской "тыловой политики" по изоляции Габсбургов, а затем переориентированного на сдерживание России. Эту историческую задачу предстояло решить Екатерине II, эпоха которой сыграла особую роль в выборе стратегических ориентиров российской дипломатии и средств их достижения. Речь не только о блестящих военных и дипломатических итогах славного царствования (выход на берега Черного моря, присоединение Правобережной Украины, Северного Причерноморья, Белоруссии, Крыма, Курляндии, расширение границ на Кавказе). Произошел кардинальный сдвиг в восприятии России как полноправного члена "концерта" ведущих европейских держав. При Екатерине российская внешняя политика была ориентирована на поддержание европейского баланса как средства обеспечения ее целей.
Нельзя, однако, не видеть и глубоких диссонансов в дипломатии Екатерины, подмеченных еще В.О.Ключевским. Избранный ею вектор движения - на юг, в направлении Черного, а за ним и Средиземного морей, выхода в которые требовала развивавшаяся русская торговля, - на полтора века определил главные задачи имперской политики России. Однако программа-максимум - освобождение Греции и Балкан и воссоздание Византийской империи со столицей в Константинополе в соответствии со знаменитым "Греческим проектом" Екатерины II и австрийского императора Иосифа II - оказалась геополитически нереализуемой, поскольку затрагивала интересы широкого круга европейских государств, опасавшихся чрезмерного усиления как России, так и Австрии.
В геополитическом смысле три раздела Польши, осуществленные Екатериной в 1772, 1793 и 1795 годах в союзе с Австрией и Пруссией, были вполне прагматической комбинацией с задачей обеспечения прочного европейского тыла перед тем, как решительно перевести стрелку российской внешней политики на южное направление. Однако в долгосрочной перспективе польский вопрос, как и стремление к овладению Проливами, стал главным раздражителем в отношениях между Европой и Россией. Конечно, вряд ли можно ставить в вину Екатерине, что осуществленные ею вместе с двумя германскими государствами разделы братского славянского государства или "Греческий проект", в реализации которого она, кстати говоря, проявила разумный реализм, стали самоцелью для ее преемников, обернувшись трагедией Крымской войны, подавлением польских восстаний 1830 и 1863 годов, унижением Берлинского конгресса, на котором стареющий канцлер А.М.Горчаков дипломатически проиграл выигранную военными русско-турецкую войну 1877-1878 годов, и в конечном итоге гибелью империи. Один лишь факт: за два месяца до Февральской революции, уже стоя на краю катастрофы, в приказе по армии и флоту, отданном 12 декабря 1916 года, Николай II заявлял, что время для мирных переговоров еще не пришло, поскольку "достижение Россией созданных войной задач, обладание Царьградом и проливами, равно как и создание свободной Польши из всех трех ныне разрозненных областей, еще не обеспечены".
Обострявшийся в имперском мышлении России конфликт между идеологией великодержавности и рационально понятым государственным интересом, отвлеченной упертостью национализма и трезвым расчетом геополитики, на наш взгляд, очевиден. В наших сегодняшних обращениях к истории не следует, однако, забывать, что в виртуальном пространстве между принципами и интересами, между борьбой против католического фанатизма польской шляхты и уничтожением польского государства рождалось не только то, что Европа впоследствии назовет российским империализмом, но и будущие независимые Украина и Белоруссия. А также Литва, со своей нынешней столицей Вильнюсом, Клайпедой и Сувалкским выступом, изъятым в советские времена у Белоруссии, и Латвия (с Курземией) в своих нынешних этнических границах. За их свободу заплачено русской кровью, их государственность, что бы ни утверждали на этот счет, оплодотворена российскими интеллектуальными и финансовыми ресурсами. Да и сама Польша, если бы не Екатерина II в XVIII веке и Сталин в XX, вряд ли могла бы рассчитывать на границу с Германией по Одеру-Нейссе, Штеттин, гданьский коридор, земли Восточной Пруссии и многое другое.
С наступлением XIX века в условиях происходившей под влиянием Французской революции и наполеоновских войн девальвации характерного для XVIII века принципа равновесия сил ведущих держав в сложной парадигме, определявшей логику действий российской дипломатии, появились новые особенности. Унаследованный от века Просвещения конфликт принципов и интересов мутировал в коллизию между прагматически понятым национально-государственным интересом (политика "свободы рук") и легитимизмом - консервативно-охранительной идеологией монархической солидарности перед лицом нараставшего революционного движения. С последней странным образом уживались - в силу пресловутой двойственности характера и политического мышления Александра - фразы о "священных правах человека".
И тем не менее некоторые из идей, которыми Александр вооружил отечественную дипломатию, оказались весьма устойчивыми в плане становления нашего дипломатического стиля. Осенью 1805 года, через три года после восшествия на престол, российский император предложил премьер-министру Англии У.Питту разработать "новый кодекс международного права", в котором были бы "гарантированы права нейтральности и включено в обязательство никогда не начинать войны, не исчерпав предварительно всех средств, предоставляемых третейским посредничеством". Его излюбленные идеи "объединенной Европы" и "вечного мира" пронизывали акт Священного союза, подписанный по окончании Венского конгресса 8 ноября 1815 года. Через год, 21 марта 1816 года, в конфиденциальном письме министру иностранных дел Англии лорду Р.Каслри тот же Александр I сформулировал предложение об "одновременном сокращении вооруженных сил всякого рода" в качестве меры, которая гарантировала бы поддержание мира и стабильности в Европе. Однако инициированный либеральными друзьями молодого императора первый приступ к дипломатической перестройке (создание МИД в 1802 г.) и новому мышлению был прерван Аустерлицем, за которым последовали разгром Великой армии Наполеона в 1812 году и вступление русской армии в Париж в 1814 году.
С позиций сегодняшнего дня не мешает вспомнить, как схожи были геополитические императивы отечественных войн XIX и XX веков. Вопросы раздела сфер влияния в Восточной Европе (Прибалтика была еще в составе империи), обсуждавшиеся Наполеоном и Александром в Тильзите в июне 1807 года, - в сущности, те же, что фигурировали в секретном протоколе к пакту Молотова - Риббентропа. Брошенную после Тильзита фразу Александра о том, что "союз с Наполеоном - лишь изменение способа борьбы против него", мог произнести и Сталин. С той только разницей, что в отличие от Александра он заключил не тайный союз, а пакт о нейтралитете с потенциальным агрессором с вполне вписывавшейся в европейскую дипломатическую практику договоренностью о разделе сфер влияния и интересов. Повторились в 1944 году и дискуссии года 1813 о том, остановиться у границ или идти освобождать Европу. В обоих случаях выбор был сделан в пользу Европы, что, впрочем, и в позапрошлом, и в прошлом веках дорого стоило русской армии, но было воспринято Европой с тяжелым подозрением.
После Венского конгресса и подписания акта о Священном союзе (8 ноября 1815 г.) "европейская идея" Александра, утратив отвлеченность, приобрела охранительный характер. На конгрессах в Троппау (октябрь 1820 г.) и Вероне (1822 г.) было согласовано так называемое "право интервенции" (так и тянет сказать, используя современную американскую политическую лексику, "гуманитарной"), легитимизировавшей внешнее вмешательство во внутренние дела европейских государств с целью подавления революционных движений. В XX веке - сначала в рамках троцкистского экспорта революции (Польша 1921-1922 гг.), хрущевских и брежневских легитимистских тенденций (Венгрия 1956 г., Чехословакия 1968 г.), а затем и американского экспорта демократии (Ирак) - такое вмешательство будет введено в практику, но отнюдь не изобретено. Эту аномальную тенденцию развития системы международных отношений в Европе надо бы учитывать и нынешним перелицовщикам истории.
Нет ничего принципиально нового и в противопоставлении принципов однополярного (наполеоновские войны) и многополярного мира. Со времени Венского конгресса многополярная Европа XIX века тяготела к дуализму, так называемые "активные державы" группировались в два противостоящих лагеря. Поражение в Крымской войне, во многом вызванное грубыми дипломатическими просчетами Николая I, показало опасность вступления в военный конфликт без союзников, предопределив последующее маневрирование России между Союзом трех императоров и Антантой и в целом сползание Европы к Первой мировой войне.
Общие итоги российской внешней политики к началу XX века трудно оценить однозначно. Великий русский юрист и дипломат, основоположник современного гуманитарного права Ф.Ф.Мартенс в связи с созывом в 1899 году первой Гаагской мирной конференции сказал, возможно, несколько пафосно, но искренне: "Неизвестна история другого какого-нибудь цивилизованного народа, которая представляла бы столько попыток для миролюбивого разрешения назревших вопросов международного порядка и права".
Вместе с тем в российской элите всегда присутствовали и критические оценки эффективности отечественной дипломатии. "Если Россия бедна и слаба, если она намного отстала от Европы, то это, прежде всего, потому, что она очень часто неправильно решала самые коренные политические вопросы", - писал на рубеже XIX и XX веков в записке на высочайшее имя бывший начальник Генерального штаба России Н.Н.Обручев. И далее: "Вел войны с гениальным сознанием Петр Великий, вела их с великим разумом и Екатерина II, - но зачем мы ходили в 1799 году с Суворовым в Швейцарию? Зачем дрались в 1805 году под Аустерлицем, а в 1806-1807 годах под Прейсиш-Эйлау и Фридландом; зачем, отбившись от Наполеона, ходили в 1813-1814 годах освобождать немцев под Лейпциг и Париж; кто нам указывал в 1849 году идти спасать Австрию, а в 1852-1853 годах мешать ей передраться с Пруссией; с каким сознанием русских интересов мы аплодировали в 1870-1871 годах поражению Франции и воссозданию грозной Немецкой империи; зачем в 1875 году помешали им вновь воевать; наконец, с какой определенной русской целью вступили в 1877 году в Болгарию; все это факты, в которых исторически уже следует признать ряд политических увлечений или недоразумений, чем зрело обдуманных решений.
Односторонне и они могут быть оправданы. Ими поддерживались иногда достоинство, иногда внешнее влияние России. Но по существу, бесконечно воюя, Россия лишь должала и должала, растрачивала для других запас сил и средств, необходимых для ее собственно развития, и очутилась наконец в положении чуть ли не приниженности по отношению к тем, кого спасала, кому помогала. Австрия ее отблагодарила Парижским трактатом, Германия - Берлинским, Греция, Румыния, Сербия, освобожденные ее кровью, перешли в противный лагерь, и даже Болгария, только что ею воскрешенная, стала уже тяготиться своею ей благодарностью".
И тем не менее на той исторической дистанции, на которой мы находимся сегодня от имперской России, нельзя не признать: главный итог дооктябрьского периода отечественной истории состоит в том, что пусть непоследовательно, с огромными людскими, экономическими и моральными затратами, нередко слишком поздно осознавая свои задачи, но Россия выполнила миссию исторического масштаба, состоявшую в формировании политической карты периферии Вестфальского пространства - Восточной Европы, Балкан, а также современных государств СНГ. Конституции Болгарии, Сербии, Румынии (органические статуты Молдавии и Валахии) написаны русскими дипломатами - хочется или не хочется кому-то об этом сегодня вспоминать. Мощью русской армии, многовекторной дипломатией А.М.Горчакова, а затем Г.В.Чичерина, А.А.Громыко обеспечивалась геополитическая стабильность в огромном регионе, неоднократно являвшемся ареной глубоких социальных потрясений, локальных войн и конфликтов.
Не стоит забывать и о том, что российская дипломатия была многонациональной не только в советский, но и в имперский периоды. Не только мощь империи, но и права населявших ее народов жить в своих естественных этнических границах создавались общими усилиями. Вместо этически небезупречного процесса перелицовки истории в соответствии с сиюминутными конъюнктурными интересами новых властных и имущественных элит надо бы вспомнить о заслугах крупных украинских (среди которых были не только незаслуженно возвеличиваемые сегодня И.Мазепа и Ф.Орлик, но и А.Безбородко, А.Разумовский, В.Кочубей, по праву составляющие гордость и российской, и украинской дипломатии), белорусских (И.Гошкевич, консул на Хоккайдо и автор первой русской грамматики японского языка), казахских (историк, этнограф и военный разведчик Ч.Валиханов) дипломатов. Список прибалтов, состоявших на русской дипломатической службе, включает В.Н.Ламздорфа, министра иностранных дел России в 1900-1906 годах, послов Х.А.Ливена, О.М. и Э.Г. Стакельбергов, посла, президента Российской академии наук И.А.Корфа и многих других. Хорошо бы, вороша грязное белье прошлых веков, не забывать и о победах. Совместных победах.
Серьезную пользу в объективном осмыслении задач, встающих перед молодыми независимыми государствами на современном этапе, может принести и объективное изучение опыта подключения российского внешнеполитического ведомства к демократическим процессам, развивавшимся в обществе. Актуальными для становления национальных дипломатических служб являются реформы Горчакова и Извольского - Сазонова, адаптировавшие МИД России к масштабным преобразованиям эпохи Александра II и революции 1905 года, многонациональная дипломатия советского периода.
С определенными оговорками можно констатировать, что и в 1917-1991 годах советская внешняя политика формировалась под воздействием тех же базовых геополитических императивов, что и в дореволюционный период. Радикальное изменение социально-политического строя привело лишь к иному (и менявшемуся от лозунга мировой революции до мирного сосуществования двух мировых систем) идеологическому обоснованию региональной и глобальной ответственности СССР за поддержание мира и стабильности.
Хочется верить, что наши потомки, избавившись от комплексов переходного периода, смогут смелее и точнее сказать о той роли, которую играла наша страна в истории XX века. И речь не только об общечеловеческом значении достижений в области космоса, науки, образования - деколонизация 1960-х годов, достижение ядерного паритета с Западом, многоуровневая система коллективной безопасности с опорой на ООН - вот далеко не полный перечень нашего вклада в обеспечение балансов в мире в прошлом столетии.
С учетом этого представляется, что органичное инкорпорирование советского периода в общую схему становления российской геополитики за последние три с половиной века принципиально важно. В эти годы была фактически завершена геополитическая миссия России, заключавшаяся в гарантиях независимого развития десятков государств Азии, Африки и Латинской Америки, формировании послевоенной политической карты Европы, Балкан, а после недавней истории 1991 года - и на периферии Советского Союза. Определяющим моментом здесь является то, что в конце 1980-х - начале 1990-х годов Советский Союз, а затем и Россия фактически сами инициировали распад Варшавского договора, а затем и СССР. Огромный позитивный потенциал такого прочтения событий для выстраивания позитивного имиджа новой России в мире очевиден.
Объективное всестороннее осмысление этого сложнейшего процесса еще впереди. Понять и внятно объяснить закономерности и аномалии происходившего и происходящего с нами - это, возможно, главное направление, где должны соединиться сегодня усилия ученых и дипломатов-практиков. Без ответа на этот вопрос, как и на вопрос о том, в чем конкретно Российская Федерация является преемником исторического опыта России на ее доимперском, имперском и советском этапах и с чем она решительно порывает, мы обречены или на репродуцирование прошлых заблуждений и просчетов, или на молчаливое согласие с формируемым другими образом России как вечного изгоя мирового сообщества со всеми вытекающими из этого последствиями для нашего международного статуса.