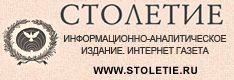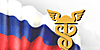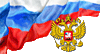СЕГОДНЯ, имея в виду все ужасы второй "Тридцатилетней войны", длившейся в Европе и мире с 1914 по 1945 годы, нам остается только сожалеть о том, что в далеком 1891 году предложение наследника австрийского престола русскому императору Александру III вновь обратиться к естественной для континентальной Европы политике австро-германо-русского согласия, так и не было воплощено в действительность: слишком много сил и людей было задействовано к тому времени в противоположном проекте, вначале франко-русской, а затем англо-франко-русской Антанты*( *Entente Cordialе - сердечное согласие (франц.).)
Хотя в императорской России кто мог искренне надеяться на военный союз с Францией в разыгрывавшейся тогда большой геополитической партии, кроме иррациональных германофобов и англоманов и клиентелы французских банков?
Ведь в культурно-религиозном смысле между Россией и Францией была пропасть - мы жили в разных мирах. Антицерковная одержимость пребывавших у власти тогдашних французских радикалов доходила до того, что армейские офицеры, желавшие производства в следующий чин, должны были скрывать от окружающих свою церковную религиозность.
Еще в 1902 году французский премьер-министр Эмиль Комб, антиклерикал и масон, в своем циркуляре префектам потребовал усиления идеологического контроля за назначениями чиновников. А осенью 1904 года разразился скандал в Палате депутатов (аffaire des fiches), связанный с попыткой военного министра Андрэ подвергнуть французский офицерский корпус идеологической (антирелигиозной) чистке. Этот скандал, вкупе с запретом священникам заниматься преподавательской деятельностью и закрытием 2500 католических школ, стоил поста и министру, и самому премьеру Эмилю Комбу.
В то же самое время в России - царь Николай II, верховный вождь русской армии, лично участвовал в торжествах по случаю прославления Серафима Саровского в лике святых. Да, личная религиозность русского царя, видимо, далеко превосходила средний уровень религиозности его офицерского корпуса. Но во Франции-то все было наоборот - антирелигиозный радикализм правящих кругов далеко превосходил средний уровень "свободомыслия" все еще традиционного по своему воспитанию французского офицерства.
Та республиканская Франция, повседневная реальность которой дала материал и повод блестящему публицисту Максу Нордау, будущему отцу-основателю сионизма, написать книгу "Вырождение", могла служить и служила учебной базой для русских революционеров - вспомним ленинскую "партшколу" в Лонжюмо, - но по большому счету не имела никаких оснований быть настоящим союзником монархической России.
По крайней мере, после того как возникшая было, вследствие поражения Наполеона III в войне с Пруссией и его отречения, возможность возвращения на трон представителя королевской династии Бурбонов*( *Речь идет о Генрихе V, графе Артуа, герцоге Бордоском, внуке короля Карла Х, известном как граф А. де Шамбор, 1820-1883 гг. Споры о причинах и следствиях этого рокового решения претендента на престол не утихли до сих пор.) была осенью 1873 года упущена. Когда граф А. де Шамбор не принял предложения монархического парламентского большинства (и легитимистов, и орлеанистов) провозгласить его "королем Франции и Наварры", так как для этого требовалось признать революционный триколор государственным флагом королевства; отвергнут им был и компромиссный вариант: исторический белый флаг с королевскими лилиями в качестве королевского штандарта, а трехцветный с королевским гербом и короной - в качестве национального. В итоге, большинством в один голос, Национальная ассамблея утвердила во Франции республиканскую форму правления.
И Франц Фердинанд понимал, кстати, природу тогдашнего нашего союзника, Французской республики - детища Французской революции, - лучше многих русских государственных людей и тем более интеллектуалов. Он считал, что за попытками французской дипломатии добиться австро-русского столкновения стоит желание "республиканизировать" Европу. Без сомнения, в планы Франции и Великобритании, в общем, не входило поступательное развитие традиционалистских монархических режимов Европы, противостоявших тогда революционному сепаратизму (в Австрии) и Революции как таковой (в России). То, что Париж и Лондон менее всего желали мира в отношениях бывших (и тем более будущих!) членов "Союза трех императоров" и противодействовали любым попыткам сближения Берлина, Вены и Москвы, имело свои причины - не только хозяйственного или политического, но даже и мировоззренческого - либерально-революционного - свойства.
Яростное британское противодействие впечатляющему росту германской хозяйственной мощи было вполне объяснимо логически. Ибо нежелание Лондона делить с кем бы то ни было лавры "мастерской мира" и допускать кого бы то ни было к "управлению морями" было очевидно всем и всегда - на протяжении всего существования Британской империи. Вообще говоря, всевластие экономического эгоизма в умах как немецкой, так и английской и французской буржуазии оказалось поистине смертельно опасным для судеб Европы. (Не вполне буржуазный характер Австрийской и Российской империй ставил их в этом смысле в особое положение.)
В отличие от англо-германского торгово-экономического прежде всего соперничества, противоречия Франции с Германией носили вполне иррациональный характер: французская одержимость "возвратом Эльзаса и Лотарингии" была столь же сильной, как и немецкое стремление к обладанию этой территорией во что бы то ни стало. Никто не догадывался тогда, во что действительно встанет одержимость правящих слоев европейских стран старыми культурно-историческими комплексами.
Стороннему наблюдателю вообще трудно понять всю остроту эльзасского вопроса. Ведь Людовик XIV, например, примеряя эту немецкоязычную провинцию к своим владениям, не намеревался ее офранцуживать: старый режим, в отличие от якобинцев, легко мирился с культурно-языковым многообразием населения французского королевства. Эльзасцы оказались яблоком раздора двух этнических национализмов лишь через два столетия, когда христианская и монархическая Европа государств превратилась в либеральную и революционную Европу наций и национальностей.
Не менее трудно, видимо, стороннему наблюдателю понять всю остроту русско-австрийского соперничества на Балканах в начале ХХ века. Нам ведь тогда по большому счету совершенно незачем было волноваться относительно строительства немцами железной дороги в Турции "прямо к армянскому нагорью" (пусть бы Лондон беспокоился об этом) или относительно "неукротимого стремления Австро-Венгрии полностью подчинить себе балканских славян": у Вены явно не было ресурсов для полного контроля над этим, как оказалось, "пороховым погребом" континента.
После болгарской авантюры, когда огромным напряжением сил в русско-турецком столкновении 1877-1878 годов мы, по сути, добились лишь замены прямого османского управления Болгарией - на косвенное влияние там Берлина и Вены, наша имперская бюрократия должна была бы быть куда более осторожна с покровительством разнообразным балканским славянам. А уж тем более с "обязывающими союзами" с ними - известно ведь теперь, куда такие союзы могут привести.
Надо признать, что чем больше славян было внутри империи Габсбургов, чем большую роль они там играли, тем лучше было для России: и с финансовой, и с политической точек зрения. Затраты наши были бы куда меньше, а естественная языковая и культурная близость балканских славян с русскими не была бы отягощена отношениями прямого или косвенного подчинения их нашему государству.
Идеологема австрославизма, уже в середине XIX столетия достаточно разработанная, например, австрийским ученым и политиком чешского происхождения Францем (Франтишеком) Палацким, предлагала вполне реальный выход и из внутриимперских противоречий Австрии, и из противоречий внешнеполитических, чрезвычайно серьезных.
Ведь со времени создания Бисмарком "железом и кровью" так называемой Германской империи (собственно не империи, а очень большого немецкого королевства во главе с прусской династией потомков тевтонского рыцаря-расстриги) именно Берлин представлял действительно серьезную опасность для целостности Австрии, а вовсе не ее венгерские или славянские подданные: пангерманисты были для Австрии подрывными элементами в гораздо большей степени, нежели романтические панслависты.
Ибо новая, протестантская и либеральная, империя Германской нации "основывалась исключительно на принципе национальности (в соответствии с которым она, кстати, и была создана), которому теория Священной империи столь очевидно противополагалась". Несмотря на то что еще в начале XIX века, под давлением наполеоновских претензий на наследие Карла Великого, австрийский монарх отказался от титула римского императора, но традиционный для "римской" Европы, династический и сверхэтнический, характер австрийской государственности сохранился.
И сам по себе союз консервативной и католической монархии Габсбургов, где высшей политической ценностью почиталась верность династии, а не этносу, с протестантской и революционно-этноцентричной монархией Гогенцоллернов был внутренне не просто противоречивым, но прямо противоестественным, а значит, чисто ситуативным и недолговечным, вынужденным совершенно особыми геополитическими обстоятельствами рубежа веков.
Ясно, что усиление славянского элемента, превращение двойственной, австро-венгерской, империи в тройственную, австро-венгерско-славянскую, к чему стремился Франц Фердинанд (эрцгерцог рассматривал возможность воссоздания либо хорватского трона, либо чешского - с венчанием в этом случае короной Св. Венцеслава), могло повлиять на выбор как целей австрийской политики, так и средств их достижения. И едва ли не в первую очередь это могло повлиять на отношения Дунайской монархии с монархией Петербургской.
Габсбурги имели тогда все основания для союзнических отношений с империей русских царей. На рубеже веков, под сильнейшим воздействием пангерманского мифа и бисмарковской Realpolitik, немецкие национал-революционеры и антиклерикалы разного рода всеми доступными способами боролись с династией и церковью. Под сомнение ставились ими сами основы католической монархии и имперского общественного порядка.
Ответ Франца Фердинанда антикатолическим культуртрегерам, выступавшим с требованием разрыва с Римом, был краток и жесток и не оставлял сомнений в готовности наследника австрийского престола к упорному сопротивлению духу Революции: "Разрыв с Римом - это разрыв с Австрией!" Но традиционный консерватизм венского двора мог более или менее успешно сопротивляться этнонационалистическому, вполне революционному по сути соблазну Берлина лишь внутри континентального альянса с имперским Петербургом, несмотря на конфессиональные различия с ним.
Странно, в общем, что в дореволюционной России к австрославизму относились в целом отрицательно: даже весьма проницательный Н.Я.Данилевский по прочтении сочинения Ф.Палацкого "Идея Австрийского государства" (Idea st