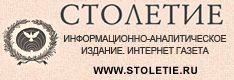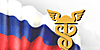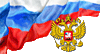В настоящее время весь мир отмечает столетие с начала Первой мировой войны - события, которому до того в истории человечества не было равных. Народы всех стран, особенно те, кто участвовал в этой бойне, вспоминают ее как чудовищное событие с явной или затаенной надеждой, чтобы оно никогда не повторилось. Вспоминают и начало Второй мировой войны, еще более чудовищной и бесчеловечной.
Все это вольно или невольно обращает нас к современным, также чудовищным событиям - локальным войнам и вооруженным конфликтам, «цветным» и «бесцветным» псевдореволюциям, в которых проглядывает начало третьей, может быть, последней в истории человечества - ибо это будет концом истории вообще - мировой войны.
Но мало и редко кто, за исключением, может быть, писателей и специалистов - критиков и литературоведов, - вспоминает также о весьма знаменательных датах (конечно, несравнимых по своей значимости с датами вышеуказанных событий): четверге 16 июня 1904 года, когда еще малоизвестный писатель Джеймс Джойс впервые встретился со своей будущей женой (этот день вошел в историю литературы как Bloomsday и стал своеобразным праздником для почитателей Джойса во всем мире), и марте 1914 года, когда Джойс приступил к своему знаменитому роману «Улисс» и был настолько увлечен этой работой, что, по существу, не замечал и не хотел замечать всего, что происходило вокруг, в том числе и Первую мировую войну.
Что же это за роман, который изолировал автора почти от всех событий внешнего мира?
Хорошо известно, что сам Джойс так писал о своих намерениях: «Задача, которую я ставлю перед собой технически, - написать книгу с восемнадцати точек зрения и в стольких же стилях…» (из письма к Харриет Шоу Уивер от 24 июня 1921 г.).
О чем идет речь? О том, что Джойс при написании своего романа во многом исходил из «Одиссеи» Гомера, рассматривая ее как структурную основу, план или способ развертывания повествования. И действительно, читатель видит, что эпизоды «Улисса» в основном соответствуют эпизодам «Одиссеи» (по смыслу, сюжету, тематике), это можно заметить и по названиям самих эпизодов. Однако самым важным художественным достоинством романа является, без сомнения, то, что это есть невиданный доселе эксперимент с различными языковыми и художественными формами, предельное использование существующих художественных форм для максимальной выразительности и изобразительности смысла. Как метко заметил переводчик «Улисса» и исследователь творчества Дж.Джойса С.Хоружий, Джойс пытался добиться в области языка того же эффекта, какого добивался Босх в области зрительных образов: оба художника стремятся создать новые системы путем расщепления привычных единиц выражения - слова и образа - на отдельные части1. А многие западноевропейские литературоведы не без основания считали, что Джойс использовал возможности внутреннего монолога, а также других художественных приемов настолько исчерпывающе, что никакие его последователи не были в состоянии повторить подобный успех. Это означало бы создание другого, нового «Улисса», хотя одного «Улисса» вполне достаточно.
Надо ли удивляться тому, что «Улисс» был встречен неоднозначно и порой враждебно как знатоками-литературоведами, так и цензурой, официальными организациями ряда стран. Первая публикация романа состоялась в американском журнале «Little Review» в 1918-1920 годах, всего было напечатано
14 эпизодов. Дальнейшая публикация была остановлена по цензурным причинам, когда против издателей началось судебное разбирательство (по иску нью-йоркского Общества по искоренению порока) и редакторы были приговорены к выплате штрафа за распространение порнографии.
Роман был впервые опубликован целиком в Париже в 1922 году, ко дню 40-летия Джойса (2 февраля 1922 г.). Второе издание вышло в январе 1923 года, книги отправили в Великобританию и США, где около 400-500 копий было конфисковано почтовой службой США и сожжено. Из допечатанных 500 экземпляров один экземпляр отправили в Лондон, а оставшиеся 499 изъяла таможенная служба.
Чем объяснялась подобная реакция «демократических» властей? Тем ли, что «Улисс» был совершенно непохож на другие традиционные и нетрадиционные романы, или это объяснялось только содержанием («порнографическим» или «полупорнографическим») отдельных глав? Или причиной тому были исключительные трудности понимания языковых форм и содержания данного романа?
Бόльшая часть читателей и литературных критиков того времени отнесли роман к модернистской литературе. Подобное мнение стало довольно распространенным, хотя более вдумчивые и более глубокие читатели и критики были с этим не совсем согласны, поскольку считали этот роман вполне укладывающимся в рамки классической литературы.
Разумеется, дело не в том, чтобы наклеить на Джойса ярлык модерниста или полумодерниста, и уж тем более не в том, чтобы объявить его новым классиком, а в том, чтобы установить сущность и истинное содержание его творчества и выявить подлинные достижения, а может быть, и открытия в сфере экспериментов с языком, иногда поразительных по своей сути и новизне, а иногда почти утрачивающих связи со смыслом слов и языковой реальностью в целом. Неслучайно один из самых серьезных и глубоких исследователей Джойса Э.Бёрджесс, сам будучи писателем, критиком, литературоведом, оценивавшим талант Джойса как великого писателя, не спешит относить его к модернистской традиции, поскольку, по его мнению, Джойс не в меньшей степени соотносим с классической традицией литературы.
Основную особенность художественного стиля Джойса Э.Бёрджесс видит в его поэтической магии слова. Например, сопоставляя заключительные монологи «Улисса» и «Поминок по Финнегану», произносимые главными героинями, он отмечает, что финальный монолог в «Поминках…» «являет собой образец более высокого мастерства, чем соответствующее женское окончание «Улисса». Анна Ливия Плюрабель предстает перед нами как стареющая женщина, как ребенок, как река, как все реки и одновременно как все это вместе взятое (при этом важно заметить, что само ее имя ассоциируется, с одной стороны, с рекой (Anna Livia - the river Liffey), с другой стороны, Плюрабель указывает на ее красоту и буквально плюралистичность, то есть множественность образов, признаков, свойств, черт, воплощенных в одном субъекте: она (героиня) символизирует собой все реки и всех женщин. Живые каламбуры, ученые словечки, детские воспоминания, народная поэзия собираются в одном потоке (и одновременно в потоке мыслей), где смешивается все, доступное и недоступное логическому осознанию, в том числе жена, муж, море: «Неужели это расставание? Увы! Как бы мне хотелось получше рассмотреть тебя в дневном свете. Но ты изменяешься… изменяешься, удаляясь от меня, я чувствую это. А, может быть, это я и есть? Все смешивается во мне. Проясняясь и светлея вверх и сжимаясь книзу. Да, ты меняешься, сын-муж, и от холмов ты снова обращаешься в дочь-жену»2.
В этом всеохватывающем потоке иногда мелькнет голос самого автора, связывающий поток стенаний непосредственно с самой героиней: «Сотни трудностей и беспокойств, а есть ли хоть кто-нибудь, кто понимает меня? Хоть однажды в тысячу лет?» («A hundred cares, a tithe of troubles and is there one who understands me? Once in a thousand of years of the nights?») - с этими словами-восклицаниями обращается героиня к себе. В этом же монологе, как отмечают исследователи, отражаются эпизоды биографии самого Джойса, когда он жил в Триесте, в частности посещение с сыном ярмарки игрушек: «До чего же прекрасно это утро для нас. Да. Проведи меня, папочка, по ярмарке игрушек, как раньше! Если б я увидел его, сходящего на меня, с распростертыми белыми крыльями, как будто бы он сходил от Архангелов, думаю, я бы смиренно затих у его ног, чтобы только лишь помыть посуду. Да… Это там. Первое. Мы идем по траве… к кустам. Тсс! Чайка. Чайки. Далеко чайки. Приближаются, далеко! Конец здесь. Тогда нам. Финн, опять!.. Пока вас не будут тысячи… Ключи. Даны...»3.
Данный отрывок - свидетельство высочайшего искусства слова, присущего Джойсу, композиции слов, выстраивания взаимоотношений между словами и складывающимися и движущимися образами, искусство, которое мы не встречаем в такой сложной конфигурации и предельной концентрации у других авторов, процесс неожиданного порождения и столь же неожиданного исчезновения смыслов. Так, «архангелы» (с написанием «Arkangels») оказывают на читателя шокирующее воздействие, при этом сочетаясь без абсурда с образом, который поворачивает на мгновение течение реки вспять, делая ее потоком воды для мытья посуды, который стекает затем в канализацию. В итоге читатель должен почувствовать, что нет никакого конфликта между поклонением священному и обыденным, бытовым. Означает ли это отождествление священного и сакрального с бытовым, банальным? Столь же необычным и в то же время характерным является сочетание и даже слияние женского принципа с мужским, выражающееся в образах движущейся реки, протекающей вдоль городских окрестностей (в самом начале повествования): «Бег реки, мимо Евы с Адамом, от поворота берега к изгибу залива несет нас широким пространством обратных (возвратных) течений опять к замку Хаут и его окрестностям»4.
Внимательный читатель может уловить не только существенные различия между произведениями самого Джойса, но и их некое органическое единство, постигая разный уровень художественного мастерства писателя, все глубже вникая в его экспериментальную языковую лабораторию. Именно поэтическая магия Джойса может примирить сопротивляющегося читателя с трудностями «Поминок по Финнегану», а гуманизм и юмор «Улисса» - с языковыми экспериментами, порой длящимися слишком долго и не всегда оказывающимися плодотворными. Однако, как справедливо замечает Э.Бёрджесс, боязнь Джойса, недоверие к его подходам к языку остаются более распространенными, чем любовь к таким «коллегам по перу» (equals), как Диккенс, Бальзак, Толстой. «Его следует рассматривать меньше под авангардным углом зрения, чем под более традиционным, таким, что, подобно консерватизму Ивлина Во, это выглядит больше как радикализм, чем анархизм. Джойс близок Рабле и Стерну, а «всеохватность» («totality») языка, воплощающаяся во что-то безыскусное, обыденное, соотносит его с Шекспиром. Я говорю, конечно, прежде всего об «Улиссе», который все более и более воспринимается как продукт традиции, более давней, чем натурализм, и который все более подвергается критике, не потому, что он непонятен, но потому, что он стал достаточно понятен для того чтобы обнаружить его недостатки. «Поминки по Финнегану», несмотря на целые библиотеки комментариев к ним, остаются буквально закрытой книгой для серьезных читателей»5.
Велись, ведутся и будут вестись горячие споры и о содержании произведений Джойса, и особенно о его языке, его лингвистических экспериментах, прежде всего связанных с «Поминками по Финнегану».
На наш взгляд, целесообразно отметить некоторые аспекты, обращающие на себя внимание читателей и исследователей и в известной степени определяющие круг тематики дискуссий и их направленность.
В связи с этим нелишне вспомнить традиционное различение типов литературы и писателей. Первый из них - это писатели, выражающие реально существующие объекты и соответствующие им взаимосвязи с другими объектами, где на первый план выдвигаются проблемы содержания и его выражения в разнообразных формах, которые при этом достаточно прозрачны, понятны, не отягощены избыточными коннотациями и двусмысленностями. В подобных произведениях содержание гораздо важнее художественного стиля. К этому относятся не только бестселлеры и иные виды массовой литературы, но и подчас литература высокого художественного уровня, подобно сочинениям С.Моэма, язык которого, с одной стороны, прозрачен и понятен, с другой - отличается высоким эстетическим уровнем, включающим благозвучный стиль, гармонию, остроумие.
Второй тип романистов ставит своей задачей не столько выражение объективного содержания в объективных же формах, сколько максимальное использование всей неоднозначности и богатства языковых форм, чтобы каламбуры, двусмысленности, коннотации стали бы предметом художественного и эстетического наслаждения для читателя. В связи с этим, в отличие от произведений романистов первого типа, которые легко представить в визуальных формах, например экранизации, произведения писателей второго типа с трудом поддаются перенесению в область визуальных форм, поскольку в этом случае они слишком многое теряют.
Вряд ли можно сомневаться в том, что Джойс относится к писателям второго типа, поскольку он целиком погружен в область литературных поисков и экспериментов. Он как бы живет в глубинах слов и выражений, их взаимосвязей, то есть в глубинах самого языка и литературы. Джойс - великий Мастер, Маэстро расстановки и композиции букв, он Человек букв, хотя для него одновременно важны как звуковой, так и письменный, начертательный аспект. Неслучайно отмечают его исключительное внимание и необычайную чувствительность к бытию и жизни слова в его самых различных ипостасях: письменных, звуковых, музыкальных, графических, символических, ассоциативных и т. д. Правда, при этом следует не забывать, что, как бы Джойс ни углублялся в дебри бесконечных языковых форм, он всегда оставался верен родной ирландско-английской почве. Как проницательно замечает Э.Бёрджесс, основная сила языка Джойса лежит не столько в его активном желании расширять лексический диапазон, словарь, сколько прежде всего в его любви к идиоматике родного языка. Если Мильтон создавал вавилонский диалект, более близкий к латыни, чем к англосаксонским корням, а Хопкинс преувеличивал значимость германской (тевтонской) матрицы английского, то Джойс никогда не уходил далеко - за исключением необходимости создавать контрастные драматические эффекты - от ритмов своего родного Дублина. И «Улисс», и «Поминки по Финнегану» заканчиваются прославлением языковых ресурсов этого города, так же как романы Диккенса являются своеобразным гимном языку Лондона XIX века6.
Так, в языке героев отражаются характерные особенности дублинской речи, диалекта, контрастирующие с официальным литературным оксфордским английским, поэтому во многих случаях, по словам знатоков Джойса, «Улисса» полезнее воспринимать на слух, то есть читать вслух, чтобы уловить все оттенки и акценты языка и речи. При этом интересно, что основной фон дублинской речи формируется преимущественно за счет героев второго плана. Что касается главных героев, там привлекает образ Стивена Дедала как героя, к которому Джойс неоднократно обращается в своих произведениях, раскрывая историю его жизни с детства и до зрелых лет. В связи с этим читатель может проследить и этапы формирования и развития его языка и речи, вбирающих в себя различные стили, акценты, лексические особенности дублинцев. Речь же главного героя - Блума - по сравнению с другими персонажами выглядит менее индивидуальной и характерной. При этом Джойс стремится, начиная со своих ранних произведений и далее в «Улиссе», добиться максимально объективного стиля повествования, пытаясь, насколько возможно, исключить из него личность автора и его вмешательство в текст и контекст событий.
В речи героев «Улисса» можно найти отражение различных социальных слоев и соответствующих стилей, в том числе просторечную, жаргонную лексику на грани непристойностей и богохульства. Что касается «запретной», «сексуальной» лексики, ее значимость относительно мала по сравнению с лексикой богохульства, поскольку лексика богохульства, по мысли Джойса, оказывала гораздо большее шокирующее воздействие на общество с преимущественно католическим вероисповеданием. Более последовательно и явно это прослеживается в «Поминках по Финнегану», где богохульство, внешне более «благопристойное» и «поэтическое», по существу, начинает доминировать. Может показаться парадоксальным, что Джойс уделяет столь большое внимание этому лексическому слою, поскольку он сам воспитывался в католических учебных заведениях и был католиком, но, видимо, в силу разочарования в католицизме у него и появились подобные, столь характерные в его творчестве, мотивы.
Важнейшей чертой стиля Джойса является внутренний монолог, «поток сознания», которому посвящено огромное количество исследований. Почему этот художественный прием занимает столь значительное место в творчестве писателя? Один из наиболее ярких и содержательных ответов дает Э.Бёрджесс7. Джойс, отмечает исследователь, стремился расширить повествование до масштабов Гомера и при этом быть таким же емким и лаконичным, как Софокл, иными словами, описать максимальное количество событий и деталей всего одного дня из жизни Дублина, мыслей и поступков его жителей. Однако для решения этой сложнейшей задачи существующих техник и приемов Джойсу явно было недостаточно. Отсюда и появляется бесконечный внутренний, не высказываемый вслух комментарий героев относительно своих мыслей, ощущений, переживаний, нередко хаотичный, основанный на многочисленных, часто бессознательных ассоциациях, не связанных с рациональными логическими построениями. Здесь Джойс не был первооткрывателем, этот прием можно увидеть еще у Ч.Диккенса, Дж.Остин, других писателей, включая русских (например, Л.Толстой), но они не использовали внутренний монолог в таких масштабах, в каких это стал использовать Джойс.
Необходимо было найти и визуальное решение этой непростой задачи, которое Джойс осуществил за счет практически полного отказа от пунктуации, вследствие чего повествование начинает представляться действительно непрерывным потоком (хотя если читать этот текст вслух, то неизбежно будут возникать паузы, логические акценты и т. д., соответствующие определенной пунктуации). При всем шокирующем воздействии последнего эпизода «Улисса», представляющего заключительный монолог главной героини, составляющий десятки страниц плотного текста, он не является совершенно оригинальным, поскольку нечто подобное, хотя, разумеется, в меньших масштабах, можно найти, например, у Диккенса в «Крошке Доррит»8. А если к тому же восстановить пунктуацию в финальном монологе «Улисса», он будет выглядеть гораздо менее авангардным и более традиционным. То же самое можно сказать о внутренних монологах других персонажей - Блума, Стивена, где именно отсутствие пунктуации является основным приемом достижения шокового эффекта на читателя.
Из языковых экспериментов Джойса в «Улиссе» можно отметить и то, что он сам называл «эмбриологическим стилем» (глава «Сцилла и Харибда»), с помощью которого пытался описать процесс зарождения и развития живого организма (от зачатия до рождения) посредством изложения истории английского языка и литературы. В связи с этим здесь мы можем обнаружить присутствие характерных черт английского языка различных эпох: времен Т.Мэлори и стиля рыцарской литературы, эпохи Елизаветы, английского XVII века. Правда, по словам исследователей, эта попытка, хотя и, безусловно, интересная, оказалась не слишком плодотворной.
Одной из известных особенностей стиля Джойса является пародийное использование различных языковых стилей, приемов, штампов, клише и т. д.: язык газет, бульварной прессы, вообще журналистский мир, язык ученых мужей, эпическое повествование с высмеиванием ложного героизма, духовные проповеди с их чрезмерной экзальтацией (в частности, пародируется американский английский) и многое другое. Все это способствовало подлинному изображению реальной - без прикрас, ханжества и кичливости - жизни общества того времени.
В сфере звучания Джойс часто отходит, например, от использования традиционных приемов звукоподражания, чтобы уйти от привычных звуковых ассоциаций и, используя комбинации букв, добиться чисто звукового эффекта, лишенного лексического смысла. Так, кошка в одном из эпизодов «Улисса» не мяукает привычным для английского языка образом, а произносит нечто вроде «mkgnao!», «mrkgnao!», лакает молоко со звуком «gurrhr!» Отмечают, что язык Джойса выражает особую музыкальную чувствительность писателя, пытавшегося - и не безуспешно - буквенными комбинациями, специфической композицией отдельных эпизодов, в частности диалогов, представить текст в различных музыкальных формах (фуга, стаккато, контрапункт и другие), особенно в эпизодах «Блуждающие скалы», «Цирцея». Во многих диалогах возникает ощущение музыкализации прозы за счет перестановки предложений, наложения фраз из одних фрагментов текста на другие, начинает казаться, что герои существуют и действуют во времени и пространстве действительно одновременно, подобно тому, как это происходит в музыке, когда, например, множество звуков сливаются в единую гармонию - в аккорд, в определенную единицу времени. В этом смысле Джойс был одним из немногих писателей, осознававших тесную органическую связь между литературой, поэзией и музыкой (имеется в виду литература самого высокого порядка).
Эксперименты Джойса бесконечны и разнообразны, иногда кажется, что все их трудно даже перечислить. Вот как определил наиболее характерные приемы языка и стиля Джойса один из исследователей: «Полисемантизм, полилингвизмы, полистилистика, онаматопея, палиндромы, метонимия, метаметафора, аллитерации, парные слова, неологизмы, слова, равные по длине изображаемого предмета, звукоподражание, ирландские народные диалектизмы, церковная латынь, смешение языков, речитативы, античные и средневековые архаизмы, жаргоны, варваризмы, энглизирование иностранных слов, слова-образы, слова-звуки, арго, словосочетания-шифры, осколки, конгломераты, комплексы, словообразования и словопревращения, антитезы, парафразы, перебои, ритмы, словесные ребусы, умолчания, недосказанности, наплывы, неисчерпаемая символика, навязчивые слова и идеи, повторяющиеся фразы, мотивы, ассоциации, намеки, каламбуры, пародии, имитации, двусмысленности, подражания текстам и языкам, скрытое цитирование, поиски музыкальных созвучий, эвфемизмы, вторжение музыкальных ритмов и тем, неразделенность внутренней и авторской речи, параллельное развертывание двух рядов мыслей, многоплановый монтаж, размытое или, наоборот, контрастное письмо, мозаика деталей, пересечение образов и планов, непревзойденные образцы многосмысленности и герметизма - и все с виртуозностью, блеском, остроумием, невиданной выразительностью.
Джойсизм: новый стиль, новый язык, новая мысль. Не все изобретено им самим, но все усовершенствовано - нет, доведено до высшей степени совершенства. Языка, равного по богатству, просто нет.
Все это столь огромно, столь разнообразно, столь концентрировано, что невозможно определить стиль Джойса, ведущей чертой которого является движение - смена стиля, письма, средств, приемов, форм.
Критики именовали это «тактикой выжженной земли» - конец каждого эпизода является одновременно отказом от выработанных в нем приемов, форм и техники письма»9.
Прежде чем дать общую оценку творчества Джойса, хотелось бы привести высказывание одного из известных современных мыслителей, близкого к постмодернизму, Умберто Эко.
В одной из своих работ о Джойсе он называет «Улисс» «трактатом по метафизике», а также и «учебником по антропологии и психологии», «удобным в обращении «Бедекером» по городу, в котором каждый сын человеческий мог признать свою родину и своих соотечественников». Иными словами, «Улисс» отражает возможную форму нашего мира, «этот образ и тот реальный мир, которому данный образ придавал форму, еще связывала некая пуповина»10. В отличие от «Улисса», «Поминки по Финнегану» У.Эко считает если не трактатом по метафизике, то трактатом по формальной логике, дающим возможность определить бесконечное число возможных форм универсума. Но между предлагаемым нам романом образом мира и «нашей возможностью найти какой-либо план движения в этом мире уже нет никакой связи». Роман «определяет наш универсум, уже не вовлекая нас в него… Но он больше не предлагает нам никакого инструмента овладения миром»11.
Известно, что Джойс почти не интересовался ни политикой, ни даже такими событиями, как мировые войны (в отличие, например, от Б.Брехта, занимавшего совершенно противоположные позиции и внесшего огромный вклад в понимание великих политических событий XX века - войны, революции и т. д.). Тем не менее Джойс сделал свой выбор, который если не восхищает, то ошеломляет. По существу, выбор Джойса обосновал принцип, по которому будет развиваться современное искусство: «отныне и в дальнейшем в нем будут две раздельные области дискурса - одна, в которой осуществляется сообщение о фактах жизни человека и его конкретных отношениях (и в которой можно будет осмысленно говорить о сюжете, рассказе, событии), и другая, в которой искусство будет осуществляться на уровне технических структур дискурса абсолютно формального типа». Точно так же и наука, в отличие от техники, «на некоторых уровнях оставляет за собой возможность дискурса сугубо гипотетического и «имагинативного», заключающегося (как, например, в неэвклидовых геометриях или математической логике) в очерчивании возможных вселенных, в которых связь с реальной вселенной не должна непременно демонстрироваться непосредственно, ибо она сможет найти себе оправдание только впоследствии, благодаря ряду опосредований (которые поначалу не должны программироваться насильственно)»12. В связи с этим У.Эко отмечает, что «Поминки по Финннегану» являются первым и самым знаменитым примером этой тенденции современного искусства, тогда как изобразительные искусства давно сделали возможным подобный выбор.
У.Эко проницательно и глубоко оценивает значение «Поминок по Финнегану», остающихся, повторим, до сих пор закрытой книгой не только для читателей, но и для многих исследователей.
Это произведение, а в его перспективе и все творчество Джойса, не предлагает нам себя в качестве решения наших художественных проблем (а вместе с ними - и прочих наших проблем: познавательных и практических). Это не Библия, не пророческая книга, несущая нам некое окончательное слово. Это произведение, в котором автор, заставив сойтись и сложиться в некую композицию целый ряд поэтик, которые в ином случае взаимно непримиримы, в то же самое время отринул другие возможности жизни и искусства, еще раз открыв нам, что наша личность раздроблена, наши возможности ограничены, наша опора на реальность зависит от условий, противоречащих друг другу, наша попытка определить всю совокупность вещей и властвовать над ними всегда в той или иной мере трагична, поскольку обречена на некий «шах», на некое, лишь частичное, обладание.
Поэтому «Финнеганов помин» представляет для нас не единственный выбор, но лишь один из возможных выборов, который остается в силе лишь в том случае, если за ним стоит и другой: невозможность разрешить нашу ситуацию в мире только посредством языка и потребность заняться преобразованием самих вещей. И именно в рамках этого выбора, в силу того факта, что, будучи предложена нам как единственное определение мира, эта книга запутывается в ряде неразрешимых апорий, она дает нам наш образ в зеркале языка»13.
Джойс обладал достаточным мужеством, умом и мудростью художника, чтобы не соблазниться традиционными и в этом смысле облегченными путями решения проблем. Напротив, он пытался найти иное решение, отбрасывая всякого рода спасительные средства, даваемые традицией, пускаясь в приключения беспорядка и хаоса. «Он выстроил по разным уровням все категории и все параметры, принимая их все и при этом отвергая их все, прибегая к чему-то вроде глумливой эпохи, и не подвластной никаким чарам. Восточный образ змеи, кусающей собственный хвост, циклическая и по видимости совершенная структура книги не способна ввести нас в заблуждение: «Финнеганов помин» - не победа Слова, которому благодаря его ритмам и законам удалось раз и навсегда определить вселенную и ее вечную идеальную историю. О том, каково значение книги Джойса, высказался он сам (в своем романе): «Condemned fool, anarch, egoarch, hiresiarch, you have reared your desunite kingdom on the vacuum of your own most intensely doubtful soul» («Проклятый дурак, анарх, эгоарх, иересиарх, ты выпестовал свое иезуитское королевство на вакууме своей собственной, в высшей степени сомнительной души».) Если «Финнеганов помин» - книга священная, то она говорит нам, что в начале был Хаос. Только при этом условии она дает нам основы какой-то новой веры, а вместе с тем и вскрывает причины нашего осуждения. И все же она расторгает тот космос, модель которого для нас уже неприемлема, она кладет конец тем двусмысленным схемам, пользоваться которыми мы уже не можем. Она оставляет нас, наследников беглеца Стивена, свободными и ответственными перед лицом провокации, вызываемой хаосом и заложенными в нем возможностями»14.
Итак, какие же выводы следуют из столь краткого и беглого путешествия по лабиринтам джойсовской мысли и творчества? Прежде всего, это вывод о том, что никакие, даже самые глубокие и радикальные, эксперименты со словом не могут быть инструментом прямого и адекватного решения различного рода практических проблем. Неслучайно Джойсу были чужды собственно практические интересы и события, происходившие в разных точках современного мира. Его сферой была именно сфера Слова. Тем не менее столь глубокие и универсальные эксперименты Джойса со словом трудно переоценить, поскольку они образовывали и воспитывали человеческий ум и разум и, видимо, будут еще долго и долго их образовывать и воспитывать в настоящем и будущем, и в этом смысле, возможно, самые высоко теоретические эксперименты в любых сферах человеческого знания могут иметь и собственно практическое значение, и смысл. Неслучайно Джойс сделал свой выбор в пользу высокой литературы, ибо литература низкопробная (равно как и низкопробное искусство и культура в целом) способна лишь дезориентировать человека, а не образовывать и воспитывать его.
Видимо, неслучайно Джойс избрал истоком своего творчества объективную реальность - Дублин, дублинцев, их язык, поскольку подлинным истоком настоящего творчества может быть только сама реальность, реальная жизнь во всем ее разнообразии. Отсюда разнообразие и многообразие его экспериментов со словом, которое, в свою очередь, может оказывать на сознание и деятельность людей столь же многообразное воздействие.
Также неслучайно Джойс избрал путь хаоса, а не сложившейся классической традиции и устоявшихся приемов. Одной из величайших заслуг его новой поэтической магии является именно ее направленность на осмысление новой реальности и выработки новых методов решения проблем, связанных с развитием этой реальности, что, естественно, порождает ответственность человека за все, что происходит с ним, и за все, что происходит в мире.
Разумеется, это не имеет прямого выхода к различного рода экономическим, социальным и политическим реалиям, но чувство ответственности неотвратимо ставит человека перед выбором, который он обязан сделать: между добром и злом, светом и тьмой, любовью и ненавистью, милосердием и жестокостью, войной и миром и т. п.
Таким образом, самые отвлеченные и предельно абстрактные эксперименты со словом через муки слова, испытание мысли, страдания сердца и души в конечном счете обращают человека к предельно актуальным, предельно высоким, глубоким и вечным проблемам жизни и смерти на земле. Человек обязан выбирать в океанах политического, экономического, социального и культурного хаоса наиболее адекватные, истинные и праведные пути развития, чтобы не дать увлечь себя демагогическими посулами и обещаниями разнокалиберных политических, идеологических демагогов, не дать вовлечь себя в тот гибельный фантастический и фантасмагорический внешне, но внутренне смертельный путь, на который его постоянно сталкивают власть имущие лжецы и фарисеи. Уже одно это составляет величайшую и неоспоримую заслугу Джеймса Джойса. Герберт Рид назвал «Улисса» «больной книгой больного века», и с этим нельзя не согласиться. Но может ли человек по-настоящему оценить здоровье, если он не испытал на себе, что такое болезнь? Как земля омывается дождями, как море очищается штормом, так и человек очищается страданиями, в том числе от болезней, и в этом смысле «больные» книги Джойса, его «болезненное» творчество во многом служит очищению человека и человечества. И этот колоссальный вклад Джеймса Джойса в мировую литературу и культуру невозможно переоценить.
1Кстати, полный перевод «Улисса» на русский язык в книжном варианте впервые вышел в 1993 г. Перевод этого необычайно сложного по языку и стилю романа был начат В.Хинкисом, продолжен в содружестве с С.Хоружим, который и завершил работу после кончины В.Хинкиса. Джойс Дж. Улисс. М., Республика, 1993. 671 с.
2«And can it be it´s nnow fforvell? Illas! I wisht I had better glances to peer to you through this baylight´s growing. But you´re changing… you´re changing from me, I can feel. Or is it me is? I´m getting mixed. Brightening up and tightening down. Yes, you´re changing, sonhusband, and you´re turning, I can feel you, for a daughterwife from the hills again». Здесь и далее мы даем свой лишь примерный литературный перевод фрагментов, никак не претендующий на абсолютную точность с учетом различных авторских коннотаций и неповторимой оригинальной орфографии, ибо задача адекватного художественного перевода данного произведения настолько сложна, что, как заметил А.Волохонский, один из энтузиастов-переводчиков фрагментов этого романа, посвятившего около пяти лет работе над 40 страницами текста из 600 с лишним, от слова «перевод» вообще следует отказаться и заменить его более широким «переложением». Джойс Дж. Поминки по Финнегану. Цит. по: Burgess A. Joysprick. An Introduction to the Language of James Joyce. A Harvest/HBJ Book. New York and London. 1973. С. 175.
3«So soft this morning, ours. Yes. Carry me along, taddy, like you done through the toy fair! If I seen him bearing down on me now under whitespread wings like he´d come from Arkangels, I sink I´d die down over his feet, humbly dumbly, only to washup. Yes tid. There´s where. First. We pass through grass behush the bush to. Whish! gull. Gulls. Far gails, Coming, far! End here. Us then. Finn, againl Busssoftlhee, mememormee! Till thousendsthee…. The keys to. Given!..» Там же. С. 175-176.
4«Riverrun, past Eve and Adam´s, from swerve of shore to bend of bay brings us by a commodius vicus of recirculation to Howth Castle and Environs». - Там же. С. 176.
5Там же. С. 176-177.
6Там же. С. 178.
7Там же. С. 48.
8Джойс Дж. Улисс. М., Республика, 1993. С. 514-549.
9Гарин И.И. Век Джойса. М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 2002. С. 281.
10Эко У. Поэтики Джойса. СПб., 2006. С. 492.
11Там же.
12Там же.
13Там же. С. 494.
14Там же.