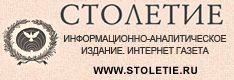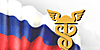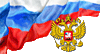*Корреспондент «Файнэншл таймс» в США и видный публицист Джефф Дайер поведал в книге «Зона» (2012 г.) о том, какое огромное впечатление произвел на него фильм «Сталкер», когда ему было 23 года. С тех пор он регулярно возвращается к нему, а в книге пытается разгадать, в чем состоит волшебная сила его воздействия.
Дорогой Джефф, мне доставило подлинное удовольствие читать Вашу «Зону». Действительно, «Сталкер» будоражит, как, впрочем, лишают покоя и христианские истины. Фильм может производить эффект своего рода шоковой терапии в том плане, что он заставляет думать о жизни и ее фундаментальных вопросах. Эти размышления могут приводить к различным выводам, и ни один из них не будет абсолютным и всеобъемлющим. Поскольку Вы заинтересованы в комментариях читателей, осмелюсь поделиться с Вами некоторыми мыслями, которые, надеюсь, дополнят Ваше повествование в некоторых моментах. Ваше эссе посвящено прежде всего впечатлению, которое производит фильм Андрея Тарковского. Поэтому я буду придерживаться этого подхода, который дает максимальную свободу. Не буду вдаваться в различия между субъективным и объективным, сознательным и подсознательным или в то, что просто может быть функцией процесса становления личности в отношении к фильму и замыслу режиссера.
Вы намеренно оставили за рамками своего анализа проблематику религиозных убеждений. Но они представляются центральными для самого сюжета «Сталкера». «Зеркало» и в особенности «Андрей Рублев» (его первоначальное название «Страсти по Андрею») дают достаточно оснований для такого подхода. Для того, кто хотя и не религиозен, но по крайней мере сознает существование этих вопросов, «Зона» может представлять собой воплощение вездесущего Бога, который соотносится с человеческим существованием посредством того, что принято называть совестью или нравственным законом.
Такой взгляд был бы обоснованным и с точки зрения преемственности русской литературной традиции, неотъемлемой частью которой являются фильмы А.Тарковского. Для нашей литературы XIX века, хотя она и была во многом продуктом модернизации, запущенной Петром Великим, источником вдохновения было христианство. В этом смысле мы подхватили факел, который выскальзывал из рук Запада.
Важное значение в данном отношении имеет анализ Освальда Шпенглера в его «Закате Европы». Это культурологический трактат, который также избегает темы религии и нравственности. Автор попытался собрать воедино свидетельства из области культуры в поддержку притязаний Германии на лидерство Запада. Это стало попыткой выдать желаемое за действительное. Сам О.Шпенглер проживет достаточно долго, чтобы понять, почему нацистский эксперимент заставит его порвать отношения с Фондом Ф.Ницше. Но его метод доказывает свою продуктивность. Он раскрывает, причем изнутри, культурные корни того, что произошло с Западом, начиная с Французской революции, и особенно в XX веке, и что продолжает происходить в наше время (Брэд Грегори в своей книге «Ненамеренная Реформация» прослеживает источники этих явлений куда глубже в историю).
О.Шпенглер проводит различие между культурой и цивилизацией, понимая под первой нечто живое, способное к развитию, а под второй - нечто статичное, потерявшее этот потенциал. Существуют другие взгляды на разницу между этими двумя понятиями. К примеру, русский философ Николай Бердяев дает такое определение культуры: «Культура означает обработку материала актом духа, победы формы над материей».
Согласно О.Шпенглеру, барокко было последним большим стилем западной культуры, включая музыку. Затем она потеряла свой источник вдохновения и, таким образом, не могла служить отражением того, что перестало существовать, то есть гармонии в душе человека, которая по определению является христианкой. Это может придать дополнительный смысл известной фразе Талейрана: «Тот, кто не жил в XVIII веке, - не жил вообще»*. (*Точная цитата: «Те, кто не жил в годы, предшествовавшие 1789 г., не могут знать, что значит получать удовольствие от жизни».)
Ивану Тургеневу очень не хватало этого последнего творческого порыва европейской культуры, как об этом писал Леонид Гроссман, ведущий литературный критик первой половины XX века. Для него это было чистейшим выражением всепобеждающей силы красоты, которая правит миром. Он писал, что «Венера Милосская несомненнее римского права и принципов 89 года» (кстати, товарищи по классу моей тогда 11-летней дочери в лондонской школе, у которых самые разные культурные корни, смогли оценить красоту «Осенней песни» П.Чайковского, что, надо заметить, добавило ей уважения в классе). Символом ностальгии по искусству XVIII века (Музей коллекции Уоллеса в Лондоне?) для него стал женский портрет, который он называл «Манон Леско» (он даже перевел этот роман на русский). Возможно, это объясняется тем, что портрет передал для него то, что осталось от утерянной гармонии человеческого существования. И вполне возможно, что музыка Бетховена своевременно и мощно возвестила начало нового мира. Кстати, автор «Муму», которого всегда угнетали мысли о будущем своей страны, в конце своей жизни уверовал в то, что смерть не может воцариться там, где просияли творческие ценности высшего порядка.
Русский философ и поэт рубежа веков Владимир Соловьев проводил следующие различия между жизнью, как она есть, и жизнью, какой она должна быть, между грубой силой существующего и духовной верой в правду и добро. Подобно О.Шпенглеру, он отличал цивилизацию от культуры. На его взгляд, люди факта живут чужой жизнью, но жизнь творят люди веры. Для него Федор Достоевский был первым автором, который проповедовал жизнь, какой она должна быть.
Сильный образ Малены (Моника Белуччи), когда она возвращается в свой город с мужем, это доказывает: никакая грязь, через которую ей пришлось пройти, не пристала к ней. Ее человечность и красота берут верх над жизнью, которая есть. Князь Мышкин говорит Настасье Филипповне: «И из такого ада вы вышли чистой».
Ф.Достоевский фактически разделял взгляд о статичной Европе как «дорогих нам камнях». Материальная культура, источником вдохновения которой было христианство и которой у нас не было много, возможно, и подразумевалась под тем, что он называл нашей «европейской тоской». Действительно, одним из недостатков русской жизни было отсутствие формы, ее чрезмерная текучесть. Поэтому даже дендизм конца XVIII - начала XIX века (Джордж Браммел, «Багряный первоцвет» и т. д.) приветствовался в культурной жизни России. В конце концов, он как-то оформлял наше существование, учитывая «всеобщую газообразность России» (И.Тургенев). А.Пушкин, А.Грибоедов, П.Чаадаев, М.Лермонтов - все великие имена нашей литературы того времени отдали должное этой тенденции в развитии культуры. В литературе это были Онегин и Печорин. Для них речь прежде всего шла об изысканных манерах. Но это можно рассматривать и как попытку продлить умирающий XVIII век - потерю, примириться с которой европейское общество не сможет в течение целого века*. (*В качестве примера хочется привести отношение части шведской элиты к России: окончательно смириться с поражением под Полтавой 1709 г. она смогла только по итогам войны с Россией 1809 г.)
Трудно отрицать, что это явление европейского духа имело много общего с утверждением человеческого достоинства. До сих пор именно форма, включая вашу великую традицию одеваться к обеду, составляет сильную сторону Великобритании. Это была борьба, в которой форма проигрывала, потеряв содержание и превратившись в пустую скорлупу. Поэтому Д.Г.Лоуренс, наверное, был прав, когда сменил тему, попытавшись найти смысл жизни там, где он со всей очевидностью еще оставался.
Серебряный век русской поэзии также был данью этой тенденции. Более того, как это показали Александр Блок и Анна Ахматова, он помог сохранить не только то, что оставалось от культуры вообще, но и высокие духовные ценности.
Тенденция в жизни советской молодежи в конце 1950-х - начале 1960-х годов, которая получила название «стиляги» (этот период совпал с «оттепелью» Н.С.Хрущева), также свидетельствует в пользу этого. Он выражал собой протест против существовавшей тогда жизни. Возможно, Вам будет интересно посмотреть фильм «Стиляги», где рассказывается об этом явлении, представленном молодыми людьми, носящими брюки-«дудочки» и галстуки-«селедки» и танцующими под американскую музыку, за что их преследуют. Это также дает основание сделать вывод о том, что группа «Битлз» сделала для перемен в Советском Союзе больше, чем США с их гонкой вооружений или саудовцы, которые обвалили мировые цены на нефть. Это было время, когда британская «мягкая сила» достигла своего апогея, когда Лондону не было нужды принимать участие в войнах за рубежом, дабы подтвердить свои претензии на международное влияние и в целом роль в мировых делах. Именно культура реально выносит вердикты истории и определяет судьбы наций.
В искусстве вершиной считается, когда форма равна содержанию. Как и в поэзии, с ее рифмой и музыкой, это служит убедительным свидетельством истины. Таким образом, форма и стиль равны красоте, которая, в свою очередь, тождественна истине. Если продолжить, то не является ли поиск истины стремлением к красоте? Как переживание красоты соотносится с осознанием истины? Если правда, что чувство стиля у истеблишмента спасло Великобританию от фашистских искушений, то в этом можно усматривать еще одно доказательство указанного тезиса. Так же, как инстинкты и сила характера У.Черчилля, которые в его время воспринимались многими с подозрительностью, в итоге оказались как раз теми психологическими и эмоциональными рамками, которые были необходимы стране для достойного ответа на вызов нацистской Германии.
Гюстав Флобер мечтал о том, чтобы написать роман, в котором бы ничего не было, кроме стиля. Уместно заметить, что такой роман уже был к тому времени написан. Это поэма Н.В.Гоголя «Мертвые души». Она стала предметом самого крупного недоразумения во всей нашей литературе. Тогдашние критики фактически все считали ее сатирой (и даже убедили в этом самого автора), хотя это произведение не было ни реалистическим, ни фантастичным. И только В.В.Розанов увидел в нем правду жизни и уникальный творческий метод (Владимир Набоков подошел близко к этому мнению в своей лекции о Гоголе, выделив его в русской литературе как наиболее чистое проявление творчества и воображения, свободный полет вдохновения). Для него поэма изобличала именно посредством стиля прогнивший стиль русской жизни, с которым было легко расстаться, когда пришло время великих реформ Александра II. По своим масштабам это явление литературы может сравниться только с мистификацией, представленной загадкой авторства произведений В.Шекспира.
Возможно, именно поэтому не пропадает желание смотреть вновь и вновь фильмы, в которых форма тождественна содержанию, такие как «Багряный первоцвет» (без ущерба для дела, которому он служит), фильмы про Джеймса Бонда (с их менее убедительным, идеологизированным сюжетом), «Гордость и предубеждение» и другие. Они продолжают тему чистого стиля, как он задан в стихах «Матушки Гусыни». Кейт Уинслет в фильме «Чтец» весьма убедительно доказывает, как литература, в частности чеховская «Дама с собачкой», помогает восхождению к собственной человечности, которая, в числе прочего, предполагает покаяние и искупление.
Противоречие между культурными и духовными устремлениями человека, с одной стороны, и грубой земной жизнью - с другой, к тому же усугубленное промышленной революцией, могло сыграть роль в конечной развязке XX века, начавшейся с Первой мировой войны. Так же, как двойной галстук Перси Блэкни не мог одолеть великий террор, это масштабное «вторичное упрощение» европейского общества (согласно К.Леонтьеву) не могло заново внести утерянную гармонию в свою жизнь. Возможно, поэтому мы одержимы современным искусством, более того, настаиваем на нем: не служит ли это способом самообмана, доказательства себе, что гармония в нашем существовании все-таки не утеряна окончательно?
Карл Ясперс признавал усреднение человеческой личности как реальную проблему европейского общества и истории. В России мы сопротивлялись усреднению личности и души человека, что, как кажется, является фундаментальным продуктом цивилизации, обеспечивая большую предсказуемость в поведении людей, но также делая их менее интересными и менее творческими. Этот процесс сужает выбор способов самовыражения личности, что, может быть, и неплохо, поскольку устраняет крайние низшие точки в поведении человека, но ценой недосягаемости его высших точек. Конечно, во всей нашей истории мы страдали от этой неспособности к усреднению. Но в то же время именно это сделало нас способными сокрушить военную машину нацистской Германии, когда никто другой не мог этого сделать (отношение Европы к России на протяжении последних двух веков отчасти напоминает мне мотив стихотворения Р.Киплинга «Томми»).
Можно только надеяться, что жизнь не сводится к тому, чтобы проживать усредненные жизни. Жизнь должна быть в высшей степени индивидуальной. Конечно, мы не были бы людьми в меньшей мере, если бы не было откровений, подобных Шекспиру или Достоевскому. Но наша человечность, хрупкая во все времена, была бы менее очевидной, что могло бы иметь большое значение в критические моменты истории. Николай Бердяев писал, что «Достоевский и есть та величайшая ценность, которой оправдывает русский народ свое бытие в мире, то, на что может указать он на Страшном суде народов».
Выбор любовного стихотворения Федора Тютчева не вызвал каких-либо комментариев с Вашей стороны (хотя, возможно, интуитивно это было во многом компенсировано вынесением на обложку книги образа читающей его девочки, что придает дополнительную проникновенность этому эпизоду). Это одно из очень немногих в своей интимности стихотворений в нашей литературе:
«Люблю глаза твои, мой друг,
С игрой их пламенно-чудесной,
Когда их приподымешь вдруг
И, словно молнией небесной,
Окинешь бегло целый круг...
Но есть сильней очарованья:
Глаза, потупленные ниц
В минуты страстного лобзанья,
И сквозь опущенных ресниц
Угрюмый, тусклый огнь желанья».
Ф.Тютчев был не только великим поэтом, но также философом и политическим мыслителем. Глубину его философских стихов высоко ценили Ф.М.Достоевский и Л.Н.Толстой. Во многом он был предшественником Достоевского. Неслучайно в своей Пушкинской речи (июнь 1880 г.) Достоевский цитирует стихотворение Тютчева «Эти бедные селенья» в обоснование своей мысли о всечеловеческом призвании русского народа. Эти строки звучат так:
«Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя».
Под этой цитатой он понимал: «Почему же нам не вместить последнего слова Его», поскольку речь идет не о «славе меча и науки», а о «братстве людей, всечеловеческом единении», доказательство чему он видел во «всемирной отзывчивости» произведений Пушкина (особенно его «Маленьких трагедий», все из которых посвящены европейским темам, а «Пир во время чумы», представляющий сцену из английской истории, содержит одни из наиболее сильных его стихов). Таким образом, он определял историческую миссию России не в категориях силы/власти и контроля. Кстати, аргументация, апеллирующая к культуре, во все большей мере начинает фигурировать в сегодняшнем интеллектуальном и политическом дискурсе. Георгий Адамович (один из ведущих литературных критиков нашей эмиграции) писал: «Россия, умудренная своим опытом, узнала многое, о существовании чего Запад никогда не догадывался».
Стоит упомянуть, что Ф.Тютчев (в своем незаконченном трактате «Россия и Запад») усматривал фатальный порок Реформации в том, что протестанты сделали себя судьями в собственном деле, начав тем самым движение в направлении человекобожества и в конечном счете к Ф.Ницше. Фрэнсис Фукуяма в своей статье в газете («Интернэшнл геральд трибюн» от 4 мая 2010 г.) писал, что «западная политическая мысль до сих пор не преодолела этого отрицания равенства человеческого достоинства, составляющего ключевую идею христианства». Это было ужасное следствие идей Ф.Ницше о смерти Бога. Каковы бы ни были грехи Римской церкви, ее индульгенции были заменены одной общей индульгенцией, выписанной людьми самим себе. Это также означало коллективизацию индивидуальной ответственности. Таким образом, бремя христианской свободы как императива выбирать между добром и злом стало общим. То есть большевики не были первыми, кто ступил на этот скользкий путь.
В своих «Записках из подполья» (они предшествовали его великим романам, начиная с «Преступления и наказания») Ф.Достоевский исследует вопрос о том, что из себя представляет личность эпохи кризиса религиозного сознания. Другими словами, речь идет в том числе и о нашем времени. Главное для него состоит в том, что человек «желает жить по своей глупой воле», даже вопреки собственным интересам, будь они просвещенные или нет. И пространство свободы человека определяется зазором между его волей и банальным фактом того, что дважды два равняется четырем. Не является ли подобный детерминизм подлинным источником «невыносимой легкости бытия»? И не связано ли это с тем, что делает экономику неточной наукой?
Идея прогресса и прав человека стала заменой тому, что было потеряно в европейском переводе «Нового Завета», который был отодвинут в сторону как одна сказка. Хотелось бы процитировать вдобавок одну мысль: ничто столь человечно, как ожидание чуда (как, кажется, это прекрасно передает картина голландца Гертгена тот Синт Янса «Рождество ночью», которая хранится в Национальной галерее в Лондоне). Фокус, заключающийся в том, что деньги порождают деньги, хотя и захватывает, представляется убогой подменой чуда. В целом же какая-то тайна, похоже, является существенной частью природы и существования человека.
Действительно, именно ощущение собственной слабости, а не силы, объясняет часть этих различий. Слабость очень человечна, а сила сверхчеловечна. А.П.Чехов писал почти исключительно о слабости человека. Он принимает людей такими, какие они есть, и не требует от них многого. «Скрипка Ротшильда» мне кажется одним из лучших его рассказов: он бесконечно глубок в понимании правды жизни. В своих «Мертвых душах» Н.В.Гоголь писал: «Всякое может случиться с человеком».
Речь не идет о каком-то внешнем воздействии на человека, подчас с применением насилия. Как сказано в Библии, «если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия» (Иоанн 3:3). «Прежде чем спрашивать «Что делать?», надо излечить себя», - писал В.Соловьев. Что толку, если толпа слепых, глухих, убогих и одержимых людей будет спрашивать «Что делать?». Сожалею, но это было сказано в 1882 году, и, хотя данные слова нельзя понимать буквально, они сейчас звучат неполиткорректно. Первым шагом к спасению служит осознание собственной слабости и несвободы*. (*Эти слова мне вспомнились, когда я недавно посетил греческий православный монастырь в Эссексе. Там мне посчастливилось встретиться с монахом-немцем по имени Прокопий (как выяснилось, в честь русского святого Прокопия Устюжского). Будучи по возрасту частично освобожден от участия в службах, он показал монастырь, рассказал его историю. Запомнилось, что он находился в каком-то просветлении и покое и от него исходила тихая радость.) Согласно В.Соловьеву и Ф.Достоевскому, неотъемлемой частью русского характера было сознание собственной греховности. С этим соглашается Карл Ясперс, когда пишет, делая выводы из опыта нацизма, что подлинная свобода может быть только функцией изменившегося человека. Вера в то, что спасения можно достичь без покаяния и искупления, возможно, является величайшей европейской иллюзией, которая была общей для Запада с Советским Союзом. Неудивительно, что Д.Г.Лоуренс создал образ идеальной жертвы в своем рассказе «Англия, моя Англия», полагая, что в конечном счете было что искуплять катастрофой Первой мировой войны. Великая война, в числе прочего, стала функцией элементарного проецирования колониальных подходов предшествующей эпохи на европейскую почву. Этот процесс начался во времена Крымской войны и, возможно, продолжается сейчас под прикрытием дебатов о сравнительной производительности труда в странах - членах Европейского союза.
Тайна, отсутствие ясности (а ясность отдает конечностью) оставляют место для сомнений и веры, но также для свободы, которая противостоит любому детерминизму. Эту мысль хорошо передают слова из Библии: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно» (I Кор. 13:12). Вы помните Настасью Филипповну в «Идиоте», когда, встречаясь с князем Мышкиным в первый раз, она говорит, что как будто смутно где-то его уже видела. Таким образом, сомнение и неопределенность совместимы с верой. Более того, они определяют пространство человеческой свободы. В противном случае не было бы необходимости делать выбор.
Возможно, наиболее убедительным тестом для любых притязаний на истину является то, насколько они созвучны тайне нашей природы, которую мы носим в себе. Иначе жизнь становится одинокой и пустой/бесплодной. Это последнее слово bаrrеп (а вы его использовали однажды в своей книге) - одно из любимых в языке Д.Г.Лоуренса, когда он пишет об антитезе жизни. Это также то, что делает личность плоской, когда она сводится к тому, что видит глаз. Это отсутствие глубины и внутренней свободы находится в резком контрасте, к примеру, с главным персонажем рассказа И.А.Бунина «Чистый понедельник». Это одиночество ощущается в последней книге Альбера Камю «Первый человек», которая, как полагают, представляет собой поиск отеческой фигуры, некого высшего авторитета, если не Бога.
И либеральный капитализм, и коммунизм рисуют упрощенный мир не подвергающихся сомнению понятий, причем их общим знаменателем является признание реальной возможности Царства Божьего на земле. Если бы не это, то не было бы ни Советского Союза, ни глобальной империи Запада. Поэтому высказывание Ф.Фукуямы относительно конца истории не было оговоркой. Владимир Маяковский в своем «Левом марше» в 1920-х годах призывал «загнать клячу истории». Такая определенность и установка конечных целей общественного развития были общими для коммунизма и либерального капитализма, хотя их различали формулы и выбор слов. В обоих случаях требовалась мера тоталитарного контроля, хотя он и осуществлялся по-разному. Однако последствия были достаточно схожими: антиутопия Джорджа Оруэлла об организации вокруг корыта приобрела универсальный характер.
Прямо или косвенно, принуждение переходит в конформизм, который означает отказ от свободы слова и, что наиболее важно, свободы мысли. Как представляется, наиболее значимыми замечаниями А. де Токвиля были те, которые относились к конформизму, в том числе в форме агрессивного провинциализма, удушающего жизнь в ее зародыше, то есть в голове (к сожалению, британский историк Нил Фергюсон в своей четвертой лекции в цикле имени основателя Би-би-си Дж.Рита на «Радио-4» в 2012 г. этой темы не коснулся вообще). Традиционно конформизм считался смертным грехом в российском освободительном и диссидентском движениях, причем этот подход часто доводился до крайности, включая убийство Александра II и трагедию 1917 года. Одним из моментов, выделяющихся особой пронзительностью, в фильме «Стиляги» является эпизод, когда один из членов молодежной компании возвращается из США и говорит, что «в Америке нет стиляг». Конечно же, Кен Кизи и Дж.Д.Сэлинджер уже тогда написали свои книги, но их еще не успели прочесть в Советском Союзе.
Совершенно согласен с тем, что правда литературы часто более убедительна, чем любой политический и философский анализ, тем более что в России литература, по большей части, была единственным пространством политической мысли и дебатов. Поскольку Россия в данном отношении являет собой пример, который не вызывает особых возражений, хотел бы сослаться на такие книги, как «Полет над гнездом кукушки» и «Над пропастью во ржи» (помню, какой фурор произвела последняя в Советском Союзе, когда была опубликована у нас в середине 1960-х гг.). Эти произведения стали своего рода пророчествами, которые сбываются в последние 30-40 лет. Они более убедительны в своем анализе состояния американского общества, его ограничителей экзистенциального характера, чем критическая часть анализа А. де Токвиля (кстати, преимуществом последнего является оперирование куда более широкими категориями, чем, к примеру, узкие рамки идеологических дебатов времен холодной войны). В равной мере откровениями стали фильмы, подобные «Д-ру Стрейнджлаву», «Криминальному чтиву» и «Форресту Гампу» (любимый фильм моей дочери с шестилетнего возраста), которые объясняют жизнь универсальными для понимания средствами, что делает возможным для неамериканцев «подключиться» к Америке.
Легко предположить в таком случае, что антиамериканизм «Лолиты» В.Набокова (в чем его подозревали) - вещь реальная и намеренная. Потребительство, составляющее существо американской мечты/жизни, находится в прямом противоречии с тем, о чем всегда говорила русская культура и в чем заключались наши духовные ценности. Питирим Сорокин, кстати, именно на этом основании предвидел упадок как Запада, так и Советского Союза. И если его пророчества сбываются, каковы могут быть другие объяснения этой глубинной общности, включая общность судеб?
Ностальгия Тургенева схожа с прощанием Марселя Пруста с бель эпок, которую символизирует образ элегантной дамы. Хотя и не всегда по стилю, та жизнь как-то напоминала XVIII век, его утерянное мироощущение, с чем было окончательно покончено в силу того, что Зб.Бжезинский назвал «массовым политическим пробуждением». Противоречия европейского общества привели к Первой мировой войне в начале XX века, что подвело черту под всем прежним историческим опытом, включая ужас и человеческую цену промышленной революции (она была крупным прорывом в деле дегуманизации европейского общества). Достоевский посетил Лондон в связи с Всемирной выставкой в 1862 году. Именно там, на Хэймаркет, он увидел девочку лет шести, в лохмотьях, которая «шла с видом такого горя, такого безвыходного отчаяния на лице, что видеть это маленькое создание… было даже как-то неестественно и ужасно больно». Этот опыт, как писал Василий Розанов, укрепил Достоевского в его последнем искушении, которое он никогда не сможет преодолеть, а именно неприятии невинного страдания.
В целом, кажется, недооценивается уникальность Британии в том, что касается промышленной революции. В сравнении с ней опыт империи далеко отходит на второе место, если судить о причиненном самим себе страдании, которое травмировало британское общество и которое, возможно, объясняет всемирное значение английской литературы. Эта сублимация страдания объединяет две наши литературы.
Дело не только в «огораживаниях» и законах против бродяжничества. Куда важнее отрицание человечности низших классов, которое помогало низвести своих сограждан до элементарной категории рабочей силы как товара, отданного во власть рыночной стихии. Более того, у тех, кто составлял эту рабочую силу, культивировалось подсознательное чувство вины за собственное положение (как это достигалось - интересный предмет для исследования).
Промышленная революция была действительно фактором дегуманизации общества. Верно, что прерафаэлиты ответили своим искусством на ее грубую силу и материализм. Ее разрушительное воздействие на жизнь было одним из главных мотивов в творчестве Д.Г.Лоуренса. В своих «Леди Чатерли», «Дочери торговца лошадьми», «Солнце» и других вещах он как бы находит «утерянный рай», противопоставляя вещи всему тактильному и живому теплу (помните свитер Сталкера, с которым он никогда не расстается?). Наверняка он согласился бы с постиндустриализмом Сталкера, равно как и с любовью в ее библейском понимании, возможно, как с чудом или свидетельством о ней. Лев Толстой сказал: «Бог там, где любовь».
Наш бард Владимир Высоцкий написал в одной из своих лучших песен: «Отражается небо в лесу, как в воде». Личность М.Пруста, очевидно, отражена в его «Под сенью девушек в цвету» или в образе спящей Альбертины (естественно, на ум приходят автопортреты Луизы Виже-Лебрён и Зинаиды Серебряковой, за которыми следуют «Прекрасная ирландка» Г.Курбе и, раз уж на то пошло, симфонии Дж.Уистлера). В равной мере личность Сталкера отражается в постиндустриальном ландшафте. Стоит заметить, что О.Шпенглер полагал, что распространение на континенте английского ландшафтного парка (возможно, как что-то находящееся в гармонии с природой) в начале XIX века было признаком того, к чему шло дело в европейской политике, то есть наступавшего англосаксонского доминирования на Западе.
Также поразительно то, что в различных фильмах (и книгах) о послевоенном времени, включая Советский Союз и Италию, присутствует какой-то общий знаменатель человечности. Возможно, потому, что речь шла о простых, базовых вещах в жизни, хлебе насущном, о вещах первой необходимости, таких как элементарное обеспечение семьи, просто необходимость иметь чем накормить детей? Эта общая культурная и духовная общность с Италией просто поражает («Дорога», «Рим, открытый город» Ф.Феллини и т. д.). И не была ли трудная жизнь времен Великой депрессии более человечной, чем жизнь в 1970-х и 1980-х годах, когда западное общество достигло пика благополучия?
Кажется, что какое-то существенное качество жизни было потеряно в 1960-х годах по обе стороны разделительной линии холодной войны, когда действительно все мы, хотя и по-разному, начали жить в долг. Вопрос в том, является ли это причиной нынешнего кризиса или это симптомы более глубокого, более фундаментального заболевания, состоящего в том, что мы сбились с пути. Вполне справедливо политические элиты Запада обвиняются в том, что управление страной стало скорее вопросом стиля, чем содержания. И если стиль никак не соотносится с содержанием и правдой, а подменяет их, тогда в этом и может быть действительная причина того, где мы сейчас находимся.
Соотношение глобализации и реальной жизни - не менее интересный предмет для размышления. Когда летом 1917 года А.Керенский провожал войска на фронт, он говорил о вещах, под которыми мы сейчас понимаем глобализацию. Но эти слова и призывы не могли изменить действительность, которая состояла в физической неспособности и отсутствии желания у России продолжать воевать. В результате этой нестыковки между в целом верной риторикой и реальной жизнью к власти пришли большевики.
А.Чехов в своих пьесах уже говорил о «громадном пустом месте» в жизни (например, в «Трех сестрах»). В.Розанов в своем «Апокалипсисе нашего времени» (написан сразу после революции 1917 г. в России) пришел к выводу о том, что эти колоссальные пустоты в человеческой душе, которые вызвали российскую и общеевропейскую катастрофу, образовались от былого христианства: «Все проваливается в пустоту души, которая лишилась древнего содержания». Он, как и Достоевский, полагал, что всему виной попытки организовать общество вне Бога. Вы упоминаете У.Х.Одена. Он сказал (цитата содержится в книге Г.Адамовича «Одиночество и свобода»): «Построить человеческое общество на всем том, о чем рассказал Достоевский, невозможно. Но общество, которое забудет то, о чем он рассказал, недостойно называться человеческим».
Комната, ее разрушение или вхождение в нее, означает конец человеческого существования. Потеря надежды или осуществление самых заветных желаний были в равной мере ужасной перспективой. Говоря откровенно, мы в России где-то в глубине души всегда испытывали страх по поводу того, что будем делать, когда достигнем благосостояния и нормальности, интуитивно подозревая, что это будет конец пути. Сознательно или нет, мы следовали этой максиме: «Прежде ищи Царствия Божия, и остальное тебе воздастся». Как писал В.Розанов, мы не читали эту истину задом наперед. По крайней мере, этим объясняется если не оправдывается вся наша история. Подпольный человек Достоевского пишет: «Не потому ли, может быть, человек так любит разрушение и хаос, что сам инстинктивно боится достигнуть цели и довершить созидаемое здание… которое, может быть, он любит издали, только любит созидать его, а не жить в нем?»* (*В данном отношении огромный интерес представляет исследование бывшего архиепископа Кентерберийского д-ра Р.Уильямса «Достоевский: его язык, вера, литература», вышедшее в Лондоне в 2008 г. (издано в России в 2013 г.), где он анализирует такие категории, как «перманентная незавершенность судьбы человека» как следствие его свободы, что в судьбах народов находит свое выражение в невозможности «конца истории». Творческий метод Ф.М.Достоевского он уподобляет иконописи, а его литературу считает «уникальной христоцентричной апологией». По мнению автора, вопросы, которые ставит Ф.М.Достоевский, в равной мере касаются политики и современности. В частности, он замечает, что образ Великого инквизитора преследует нас потому, что «его голос явно слышен по обе стороны нынешнего глобального конфликта. Он и управляющий всемирным рынком гарантированных безопасности и комфорта для урезанной человеческой души, и тот, кто с помощью насилия устанавливает систему, которая отрицает диалог и перемены».)
Теперь о языке и творческом методе «Сталкера». Неудивительно, что все писатели, которым было что сказать (В.Шекспир, Н.Гоголь, Ф.Достоевский, Д.Г.Лоуренс и др.), нуждались в своем собственном языке, чтобы довести свои мысли до читателя. В своей смеси слов, образов и звуков жанр «Сталкера» весьма близок к притчам Библии. В стихотворении «Силентиум» Ф.Тютчев писал: «Мысль изреченная есть ложь».
Метод фильма (методизм?) следует за «фантастическим реализмом» Достоевского, то есть создается совершенно искусственный сюжет, с помощью которого действующие лица открывают свою душу. Это Преображение, которое пережил сам Достоевский, когда ожидал казни и затем в Сибири. Сталкер прошел через аналогичное испытание, которое ведет к откровению. То есть ГУЛАГ в данном случае служит средством, а не целью, которой является духовное возрождение. Он помогает Писателю и Профессору пройти то же самое испытание, и нам легко поверить в то, что их жизнь изменится навсегда. Реалистичными его произведения делает правда человеческой природы (будучи людьми, мы всегда узнаем ее, когда сталкиваемся с ней). Стендаль также использовал этот метод, например в романе «Красное и черное».
Движение к более простой жизни, когда люди уходят из сложившейся экономической системы, дабы вернуть себе контроль над своей жизнью, служит признаком нашего смутного времени, почти всеобщей реакцией (от Италии до Ирландии) на нынешний кризис. Не надо читать книги С.Перотти, чтобы обратиться в эту веру. В определенном смысле это подводит черту и одновременно делает вывод из нашей общей истории и опыта по крайней мере последних трех-пяти столетий и выносит приговор всему прогрессу, достигнутому за это время. Возможно, не прогрессу как таковому, а методу, с помощью которого он был достигнут. Но именно метод в конечном счете определяет результат. Было бы справедливым сказать, что для многих россиян такого рода уход к простой жизни был обычным способом существования, правда, в разной мере в разное время. Это дает подходящее определение жизни Сталкера (хлебом насущным в числе прочего).
Возможно, сейчас пришло время изучить опыт статичных обществ прошлого, включая плохо изученное европейское Средневековье, особенно раннее, отказавшись от парадигмы экономического развития, основанной на неуклонном росте и скорости операций, которые достигли точки, когда их уже невозможно поддерживать и когда они не совместимы с человеческой природой. Возможно, пример для подражания дает Япония (она побывала частью Запада и теперь возвращается к своим азиатским корням) - своим трудным опытом последних 20 лет, который решает задачу изменения качества экономической жизни при сокращении размера экономики в целях сохранения своей идентичности.
Требуется особая чувствительность для того, чтобы слышать то, что еще похоронено заживо в нашей душе под кипой вещей и постоянного отсутствия времени на то, чтобы размышлять и чувствовать. Полезно хотя бы знать или просто подозревать, что подобные вещи существуют вообще. Затем они могут начинать обретать плоть и кровь собственных мыслей и жизненного опыта. Фильм «Сталкер» служит этой цели. В данном отношении он был подрывным как в отношении советской системы, так и западного образа жизни. Кажется, что категории конвергенции и синтеза могли бы ответить на все проблемы европейской семьи, включая Россию и Великобританию. Исторически, так было и в послевоенной Европе, если учесть социализацию экономики западноевропейских стран в ответ на геополитические императивы холодной войны. После ее окончания были сделаны неверные выводы, что, вероятно, во многом объясняет состояние западного общества, на которое давят попытки капитализма XIX века взять реванш над капитализмом с человеческим лицом XX века. Поэтому многие ученые считают, что нынешний вакуум идей мог бы быть преодолен на путях неоклассического синтеза продуктов европейской мысли 1960-х годов, включая экзистенциализм и девелопментализм, на основе коллективного анализа совокупного опыта Советского Союза и Запада. Но для этого нам придется выйти за узкие рамки идеологического дискурса холодной войны.
Если суммировать, то именно на этом фоне, отчетливо российском, но также и европейском во многих отношениях, следует рассматривать фильм «Сталкер». Я бы назвал его в высшей степени своевременным напоминанием о наших христианских корнях, о которых мы забыли и которые мы предали, хотя и по-разному. Вопрос заключается в том, возможно ли это возвращение к истокам, и если да, то как. Экзистенциализм пытался решить эту задачу в 1960-х годах, но затем о нем забыли, особенно в свете настроений в духе конца истории после окончания холодной войны.
В целом для меня фильм служит свидетельством единственного важнейшего факта, заключающегося в том, что Россия теряет свою особость за исключением одного - остаточной способности задавать вопросы о смысле жизни. Ф.Тютчеву принадлежит фраза, которая может вызывать сильные чувства: «Самим фактом своего существования Россия отрицает будущее Запада»*. (*Развивая мысль, Ф.Тютчев писал: «Европейский Запад является лишь половиной великого органического целого и что, по видимости, неразрешимые затруднения, терзающие его, найдут свое разрешение только в другой половине (христианской цивилизации)».) (Поэт, кстати, писал в конце 40-х годов XIX века, что в Европе было место для Германии как федерации, но не как империи, которая будет - и так случилось в действительности - иметь катастрофические последствия для континента.)
Эта фраза не звучит столь агрессивно и националистически в наши дни, когда мы наблюдали распад Советского Союза и являемся свидетелями нынешнего глобального кризиса, который можно квалифицировать как кризис либерального капитализма или западного общества в целом. К.Ясперс в некотором роде согласился с этим тезисом, когда он писал в своем трактате «Смысл и назначение истории» об Азии как «необходимом дополнении» к Европе, которая «не двигалась в направлении улучшения человеческой природы». Поэтому проблема формулируется не как противоречие между Западом и Советским Союзом, поскольку экзистенциально оба были весьма близки, а как противоречие между Западом и мироощущением, которое Советский Союз пытался уничтожить. Значение «Сталкера» акцентирует фон конвергенции и синтеза обеих частей европейской цивилизации. В.Соловьев проводил такую мысль: «Синтез на языке нравственном - это примирение», а «истинное примирение в том, чтобы по-божьи отнестись к противнику»**. (*В.Соловьев в своей третьей речи о Достоевском добавляет: «Не в нашей власти, чтобы другие хорошо относились к нам, но в нашей власти быть достойными такого отношения».) К.Ясперс думал, что в своей целостности человеческая природа может быть открыта только в синтезе всех явлений, в которых она выражается. Каким бы ни был конечный исход нынешнего кризиса, эта способность будоражить совесть и ум могла бы пригодиться всем нам.
Ф.Достоевский писал о единственном воспоминании детства, которое может спасти человека в его взрослой жизни (фактически вся глава «Мальчики» романа «Братья Карамазовы» посвящена этой теме). О каком воспоминании такого рода может идти речь применительно к Европе? Может быть, об эпохе христианства. М.Олбрайт в своей книге «Могущие и Всемогущий» (изданной в 2006 г.) писала, что люди в исламских странах сейчас «задаются трансцендентными вопросами истории, идентичности и веры. Для того чтобы быть услышанными, все остальные должны смотреть на вещи с не меньшей глубиной». Сама идея прогресса, возможно, должна быть переформулирована в рамках такого подхода.
Вероятно, пришло время проверить на подлинность сами основы нашей жизни, чтобы убедиться в том, насколько и в какой мере они соотносятся с реальными потребностями человеческого существования. Может быть, одностороннее понимание человеческой природы, которое восторжествовало несколько веков назад, оказалось неверным. В конце концов, мы не можем судить о дереве, игнорируя плоды, которые оно приносит. Предполагалось, что все будет основано на разуме, здравом смысле и элементарной порядочности. Где они? Не износились ли?
Возможно, пришло время узнать, что было потеряно в этом переводе христианства, которое еще живо где-то в глубине нашей души и которое время от времени вытаскивают на свет божий люди, подобные Достоевскому и Тарковскому, свидетельствуя о крайней ограниченности определения человечности, с которым мы давно примирились в своей жизни.