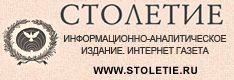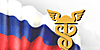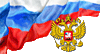Мировой кризис активизировал архаичный взгляд на последние полтора столетия как на игру амбиций нескольких бизнес-групп (промышленных монополий, финансовых кланов, банковских империй и т.п.), якобы располагающих необходимыми и достаточными ресурсами для манипулирования международными процессами исключительно в своих частных эгоистических целях и использующих национальные интересы, политические идеалы и общественные институты, правительства и народы в качестве инструментов прикрытия своих роковых устремлений.
Очередная редакция конспирологической версии истории была вброшена отставными представителями разведывательного сообщества, по роду своей деятельности склонного преувеличивать действенность тотального контроля над происходящим. То, что они некогда сами участвовали в некоторых удавшихся локальных спецоперациях[1], придаёт веса их экстраполяциям в глазах определённых категорий потребителей.
Эти заблуждения растут из ложной интерпретации реальных событий. Эволюция капитализма, начиная с 1850-х гг., показывает череду кризисов, из которых лидирующие игроки (сначала Великобритания, потом США) всякий раз выходили, действительно, активно используя внешние источники элиминирования возникших проблем. Это происходило потому, что, благодаря своему положению и надёжной репутации, они могли мобилизовать ресурсы иных участников событий и извлечь из них максимальную для себя пользу.
Нерегулярный поиск оптимальных моделей преодоления и недопущения кризисных явлений прерывался войнами, с помощью которых те надеялись разрубить, как Гордиев узел. Попытки управлять кризисом в межвоенные периоды были неизменно оппортунистическими: они смягчали наиболее тяжёлые поверхностные противоречия, не касаясь их фундаментальных причин. Теории же, покушавшиеся предложить какие-либо стратегии, всегда опрокидывались действительностью. Как это случилось и с эмиссионно-долговым типом экономики, исходившим из некоторых теоретико-математических посылок его функционирования.
Напряжения второй четверти XIX века, вылившиеся в две серии европейских революций, продолжились и во второй половине столетия и привели к Крымской кампании, франко-прусской войне и Парижской коммуне. Поскольку они не повлекли за собой кардинальных изменений доминирующего экономического порядка, то заложенные в нём недостатки спровоцировали не только волнения в России 1904-1907 гг., но и кризис 1907 года в Америке. Последние не разрешили вала разногласий, и Европа скатилась в Первую мировую войну. Она не только не сняла накопившиеся нестыковки экономической системы капитализма, но и не смогла обогнуть их, поэтому её вторым, с интермедией общеевропейского кризиса 20-30х гг. и Великой депрессии в США, актом стала Вторая мировая война.
Трагедия 1939-1945 гг. тоже была только попыткой ухода от трудностей, а не выхода из них, что привело, через вереницу социальных катаклизмов, сменявших друг друга с конца 40-х до конца 60-х годов, к серьёзному кризису 1971-1975 гг. Отказ следом за ним от Бреттон-Вудской системы стал продлением той же порочной практики самоустранения от работы по сути нарастающих сложностей, закончившейся на сегодня, вслед за рядом встрясок разной степени интенсивности в 90-е годы, системным глобальным обвалом.
Уклоняясь от решения вопросов по существу, в ходе и после каждого тектонического сдвига капитализм расширял свой потребительский рынок. В Великую депрессию миллионы американцев трудоустроились на высокооплачиваемой работе на стройках социализма в СССР. Во Вторую мировую они получали высокие доходы уже у себя дома на контрактах по ленд-лизу. Потом экономика США разрослась на плане Маршалла. Эта врождённая способность рынка всё обращать себе на пользу и создаёт явно обманчивое впечатление о «возможности» существования некоего последовательно реализуемого «тайного» плана.
Всё сказанное выше придаёт особое значение правильной диагностике нынешнего глобального кризиса. Многие его симптомы могут значить, что механическое распространение капитализма достигло своего естественного предела, а это требует, наконец, его принципиальной модернизации. К сожалению, именно адекватной квалификации разворачивающихся событий и недостаёт. Экономисты фатально опаздывают с распознаванием обрушившихся на нас проблем. Когда уже было ясно, что кризис экономический, его упрямо продолжали называть финансовым. Когда выступления в Исландии, Франции, Германии, Испании, Греции и Италии придали ему бесспорно социальное измерение, его с трудом признали экономическим. И лишь к середине весны 2009 года кое-кто стал говорить о социально-гуманитарной угрозе, правда, вопреки очевидности, применительно лишь к Восточной Европе и Центральной Азии. Но и это определение, даже в его расширительном применении, уже устарело. Если сложить вместе то, что многими признаётся по отдельности, станет ясно, что речь идёт о глубинном культурном (цивилизационном) кризисе.
Ведь если его, согласно общему мнению, отличает системный[2] характер, то полноценной, т.е. самодостаточной, системой является только культура, а экономика, за рамками чисто научных построений,– лишь её не имеющей самодовлеющего значения подсистемой. Конечно, на время узкого исследования (и только для него!) при соблюдении всем известных требований, в принципе, любая совокупность может быть названа системой. Но такой подход имеет сугубо академическую ценность.
Более того, когда практики говорят о кризисе господствующего экономического мировоззрения, о формационном и тектоническом сдвиге, они используют смысловой ряд не экономики, но культуры, к которой некоторые из них прямо и отсылают[3]. К культуре апеллируют и когда рассуждают о вскрывшихся моральных рисках, кризисе доверия, необходимости ужесточить нормы этики поведения на рынке и даже о религии, которая, как главный источник ценностей, должна сыграть ключевую роль в контроле над направленностью основных реформ, необходимых капитализму. Ведь очевидно, что доверие, на котором строятся взаимоотношения уже в самых примитивных обществах, старше экономики, а этика ею не производится и, вообще, не есть её цель. Все эти понятия заимствованы из мира (системы) культуры.
Раз это культурный кризис, то надо понять, культура какого типа его переживает. В прошлом культурные кризисы случались не однажды, и это непременно бывали кризисы какого-то определённого культурного вида. Нынешний – не исключение. Для меня ясно, что налицо два больших связанных между собою комплекса кризисных явлений современной культуры. Первый обнимает различные аспекты постмодернизма как культурного типа. Во-первых, довольно давно постмодерн устранил основного референта сначала из обмена культурными объектами, с чего (замещение массовой культурой и «капустником» настоящего искусства), в частности, начался цивилизационный надлом Запада. Затем он проделал то же с политикой, что подтверждается распространением не только диктаторских режимов в ХХ и XXI вв., но и модных западных концепций конца демократии, и игнорированием общественного мнения в постсоветских странах – от России и молодых членов ЕС до Украины и Грузии. Надо отдать должное экономическим субъектам: они дольше всех сопротивлялись постмо-дернистскому вирусу. Но, в конце концов, экономика им заразилась, и он вырос в спусковой механизм её обрушения. Ибо в схеме обращения не только деривативов, но и фьючерсов есть только формальная привязка к базовой ценности, от которой они произведены. Стало очевидно, что постмодернизм, как мировоззрение и стратегия, опасен для жизни.
Во-вторых, показала свою несостоятельность идеологема «цивилизации средств, а не целей», которой недавно так гордились западноевропейские интеллектуалы. И раньше можно было догадаться, что это губительная философия, так как она утверждает кладбищенский подход к жизни. Ведь только у тех, кто лежит на некрополе, уже нет никаких целей, и все они, с другой стороны, служат средством кругооборота вещества в природе. Сейчас медленно возвращается понимание того, что без руководства вечными ценностями, без подчинения им идейных и материальных инструментов человечество не выживет.
В-третьих, оказалась непродуктивной цивилизация скорости. После обвала фондовых рынков начали стесняться выдвигать таковую одним из главных достижений информационной и постинформационной экономики. Кроме того, существует ещё, как минимум, три негативных последствия чрезмерного увлечения быстротой, которым пока уделяется явно недостаточное внимание. Социально наиболее опасна суета, ибо она убивает нормальное общение между людьми, лишает их необходимого для их успешного развития душевного комфорта и нацеленности на непреходящие ценности.
В силу же ускорения, ради стимулирования потребления, предложения на рынке новых моделей продукции либеральная экономика пришла к тому же результату, что и директивная – падению качества товаров. Парадокс, но факт: поскольку они всё быстрее морально устаревают, теряется смысл производить вещи, чья надёжность рассчитана на длительный срок. Падение качества 9 постепенно распространилось на всё предложение, включая производство идей и решений. Всё большее их число продвигается без учёта их хотя бы среднесрочных последствий.
Следующий подводный камень также подстерегает нас на пути подстёгивания темпов инноваций. Уже сейчас срок поступления технических новинок в распоряжение массового потребителя, на нашей памяти занимавший десятилетия и годы, сократился до нескольких месяцев. В ближайшей перспективе он вполне может уменьшиться до недель. Когда же дело дойдёт до дней (к этому же толкает стремление постоянно оптимизировать прибыль), утратит смысл инновационная деятельность, как таковая: новшества будут морально устаревать быстрее, чем ими успеют в полной мере воспользоваться. А это будет крах куда хуже теперешнего.
Второй комплекс охватывает кризис концепций, так или иначе восходящих к марксизму и/или соотносящихся с ним, ибо даже те, кто отвергает прогнозы и практические рекомендации Карла Маркса, обычно признаёт его выдающимся социологом и экономистом. Во-первых, обнаружилась врождённая порочность психологии экономоцентризма, которой весь развитый мир был, пусть и по-разному, захвачен в истекшие полтораста лет. Именно Маркс первым возвёл экономику в абсолют, превратив обыкновенный инструмент, призванный всего лишь обслуживать интересы общества, в самодостаточную сущность, имеющую, якобы, императивную власть над человеком. За что его и поднимают на щит все, кто апеллирует к химере высших нужд экономики.
Вообще говоря, это далеко не единственный случай, когда человечество обожествляет рукотворные произведения, превращая их в своего рода «золотых тельцов», которых и начинает почитать. Одной из первых форм такого заблуждения были ранние религиозные представления, известные как фетишизм. В дальнейшем публика творила себе кумира из идеологий, власти и т.д. Так как это неизменно заканчивалось весьма плачевно, на сегодня итог превращения экономики в один из рядовых фетишей надо признать закономерным. Видимо, пришла пора расстаться с очередным идолом и перейти от поклонения заурядному средству к его использованию по прямому назначению: как такого же орудия, как и прочие. Не люди должны работать на экономику, а она – на них.
Во-вторых, показала свою несостоятельность следующая из марксова экономоцентризма экспансия рыночных отношений за их законные границы. Ещё Адам Смит, и с ним согласны многие выдающиеся умы, определил, что рынок, эффективный в сфере частного интереса, абсолютно неэффективен в области общественного блага.[4] Хотя из-за кризиса под ударом оказалась экономика потребления, виновата не она (на удовлетворение спроса любая её форма ориентируется по определению), но возникшее в результате игнорирования смитовского предупреждения общество потребления[5].
Оба понятия путают настолько часто, что надо специально подчеркнуть, что худо не материальное (экономическое) потребление, а перенос его подходов на то, к чему они неприменимы в принципе (все вообще человеческие контакты, искусство и т.п.), то есть общество, где узусы потребления подавляют все остальные. Когда люди не более, чем потребляют друг друга, у них пропадает настоящая взаимная ответственность. Превращение образования, науки, культуры, медицины в обычные услуги извращает их смысл. Из-за бездумного увлечения ползучим практицизмом в двух первых преобладает угнетающее их рядовое ремесло, третья не воспитывает реципиента, а опускается на его уровень, четвёртая откровенно коммерциализируется и забывает о клятве Гиппократа и т.д.
В-третьих, исчерпал себя механистический подход к регулированию общественных процессов, также берущий своё начало в социализме позапрошлого столетия. Подобно тому, как аналогичная метода в экономике восходит к утопистам Оуэну и Фурье, так и различные виды социальной инженерии – к ещё одному предшественнику марксизма, Сен-Симону, чьи ученики, сплошь инженеры из Высшей политехнической школы в Париже, вдохновили Маркса[6] на выработку им его рецептов построения всеобщего счастья. И хотя преобладающие сейчас воззрения во многом отошли от его рекомендаций, сама привычка рассматривать человека и общество как довольно простые агрегаты, ненамного сложнее устроенные, чем обычные машины, осталась неизменной.
В работе правительств, бизнеса, консультантов, экспертов и исследователей разных уровней технологические конструкты общества стали настолько подменять его подлинный образ, что это дало повод Д. Хорнгрену сформулировать свой крылатый афоризм[7]: «Среди экономистов реальный мир зачастую считается частным случаем» (i.e. их концептов). Администраторы и менеджеры привыкли полностью доверять управленческой эффективности искусственных схем, тотально пренебрегающих многообразием естественного мира. Эта возведённая за вторую половину ХХ века в абсолют практика отнюдь не невинна, ибо витальность всем формам 10 жизненной активности обеспечивается, и кризис это продемонстрировал, как раз наоборот, их избыточным разнообразием.
В-четвёртых, дискредитирована явившаяся логическим продолжением марксизма вульгарная интерпретация концепции рационального выбора, огульно распространившая её на любых игроков и сегменты рынка. Между тем, таким способом невозможно как описать поведение всех участников розничной торговли, где основной покупатель представлен женщиной, чьи предпочтения не укладываются в прокрустово ложе рациональной мотивации, так и смоделировать ситуацию на бирже. Проявившаяся с особой остротой в период кризиса волатильность финансовых и фондовых рынков, чья динамика зависит в большей степени от сиюминутного – эмоционального и психического – настроя спекулянтов, чем от реального положения дел в экономике и информации о них, ясно указывает на ограничения применения данной методики.
В-пятых, закончилось время марксистской политэкономии. Маркс анализировал экономику классического типа – производства и сбыта физических материальных ценностей. Тем же до сих пор занимались и его последователи и противники. Хотя обстановка принципиально изменилась никак не менее четверти века назад, все по инерции продолжали работать с новой реальностью по правилам, действительным только для давно ушедшей натуры, и это стало одной из причин неожиданности и глубины глобального кризиса.
Политики искусственного подхлёстывания роста (потребления) и формирования спекулятивных рынков[8], стартовавшие в США в 70-е годы, привели к середине 80-х к возникновению нового типа экономики, которая может быть условно названа эмиссионно-долговой. Она отличается превращением (через систему торгов фьючерсами и деривативами) всех товарных рынков – от пшеницы до металлов и нефти – в рынки сугубо финансовые, или спекулятивные. Биржи торгуют теперь не реальными объёмами продукции с определёнными сроками их фактической поставки, но ценными бумагами, выпущенными под них. Последние есть чисто финансовый инструмент, существующий в своём виртуальном мире, поскольку наличие реального товара ни одну из сторон сделки ни на каком из её этапов не интересует.[9] Отсюда и, например, пузырь продовольственного кризиса, возникший на пустом месте несколько лет тому назад и не имевший ничего общего, как выяснилось, с угрозой голода, фантом которого надувался в интересах биржевых игроков. Товарные биржи стали, таким образом, аналогом фондовых, и торги на них подчиняются логике финансовых спекуляций.
То же произошло и с капитализацией компаний, чьи показатели используются сейчас почти исключительно в спекулятивных целях[10]. Нынешняя ситуация радикально отличается от той, что была известна Марксу и осмыслена им и препарировавшими тот же материал его оппонентами. Эта новая действительность требует своей оценки, для которой не подходит старый инструментарий. Пока не будет проделана эта срочная интеллектуальная работа, не будут найдены и адекватные методы лечения невиданной прежде болезни, и нельзя будет говорить об устойчивом выходе из кризиса.
К сожалению, до этого ещё далеко. К тому же глобальный кризис разворачивается на фоне целого ряда серьёзно отягчающих его течение отраслевых кризисов. Большинство из них, что лишний раз подтверждает общекультурный характер происходящего, не имеют исключительно экономического источника. Первый среди них – кризис экономической науки. Такие разные теоретики и практики, как Роберт Зелиг[11], Джозеф Стиглиц[12], Нуриэль Рубини[13], Мартин Гилман[14] и Уоррен Баффет[15] не могут хотя бы приблизительно определить, когда закончатся текущие потрясения. Бен Бернанке продолжает требовать поддержать американские банки «любой ценой». Барак Обама заявляет о начале выхода из рецессии, а Алан Гринспэн предупреждает, что падение ипотечного рынка ещё на 5% (весьма вероятное) добьёт американскую экономику.
Такую разноголосицу можно понять, ибо учёные никак не могут сказать о природе кризиса ничего определённого. Все имеющиеся ответы отражают пока лишь их негативное знание: это не циклический кризис, не обычный кризис перепроизводства, при котором повышение процентной ставки приводит к сжатию денежного предложения, сокращению спроса, снижению цен и, вслед за тем, нового понижения ставки. Оптимизма не добавляют наблюдения, что даже относительно происхождения давних кризисов среди учёных нет согласия,[16] что порождает опасения относительно научной состоятельности соответствующих концепций. Нет ясности в том, как будет развиваться кризис экономики искусственного стимулирования потребления, полностью оторванной от золотого стандарта, с волатильностью и спекулятивностью товарных рынков. 11 При том, что все рынки стали, по сути, финансовыми, работающей теории их функционирования нет.[17] Да и даже лидеры финансового мира имели об особенностях новых финансовых инструментах весьма слабое представление.[18] Теория долгосрочных экономических циклов, по-видимому, устарела.[19] Теория реальных циклов не имеет практической ценности[20], современные модели деловых циклов не гарантируют реалистичности представленных в них расчётов и результатов[21], что делает их чистой игрой ума, что и было блестяще доказано расхождением результатов математических расчётов и настоящих итогов обращения деривативов.
Вторым является психологический кризис. Энтузиазм, вызванный доходностью деривативов и финансового сектора в целом, сменился глубоким пессимизмом. После того, как растаял очередной мираж, многие почему-то стали хоронить капитализм как таковой, проклинать алчных банкиров и т.п.[22]
Третий фактор, оказывающий глубочайшее воздействие на течение событий – это кризис того состояния либеральной экономики, когда её акторы не осознали угроз её безальтернативного положения. Будучи лишёна необходимости конкурировать за место под солнцем, она, как и любой бы на её месте, быстро потеряла самоконтроль. Праздник победы Запада оказался прерван потому, что в его гипертрофированной эйфории потерялась базовая для либерализма идея личной ответственности за плоды своей активности.
Утраченная ценность должна быть срочно восстановлена в ситуации, когда с редким и заслуживающим лучшего применения единодушием удары со всех сторон наносятся в самое сердце свободы. И левые, и правые предлагают, в той или иной степени, отказаться от неё, не понимая, что в бедах виновата не она, а принимавшаяся всеми как сама собой разумеющаяся её внутренняя монотонность. Это страшный подвох, ибо в нём кроется опасность расползания по свету, в качестве альтернативы рынку, уже начавшихся в Латинской Америке попыток реставрации «социалистического рая».
Увы, именно в сфере столь востребованных ныне идей мировых лидеров и подстерегает четвёртый кризис – философии. В лучшем случае они сводят всю реформу капитализма к ритуальному подтверждению своего банальнейшего неприятия его англо-саксонской модели, в худшем – сами же пестуют социализм, подталкивая планету к новой катастрофе. Пятый кризис – действий – напрямую вытекает из предыдущих. Поскольку парадигмы глобального катаклизма никто не понимает, то и меры принимают такие, какие могли бы помочь при прежних, а не этих потрясениях. Сами по себе усиление государственного надзора над соблюдением правил рыночных отношений, расширение числа мировых и/или региональных резервных валют и финансовых центров, перераспределение квот и голосов в МВФ и т.п., возможно, и нужны. Проблема в том, что все эти шаги не имеют прямого отношения к текущим кризисным обстоятельствам. А потому достаточность применения как уже доказавших ранее свою эффективность механизмов регулирования, так и выработка следующих прежней логике новых, остаётся под вопросом. То есть, всё делается, вроде бы, правильно, но для лечения другой болезни.
Между тем, перед человечеством стоят совсем не рядовые вызовы. Первый из них заключается в следующем – проявит ли капитализм способность к интенсивному развитию? Вопрос звучит парадоксально, поскольку все привыкли почти отождествлять два эти явления. На поверку же выходит, что такая связь в рамках капиталистического пути справедлива только применительно к техническому прогрессу. А вот сама форма экономического поведения, известная как капитализм, в то же самое время развивалась исключительно экстенсивно. Она осваивала новые рынки теми же методами, что были опробованы на старых, и в настоящий момент достигла географических границ своего механического распространения. Остаются, конечно, беднейшие страны Азии и Африки и возможности движения вглубь многомиллиардных обществ Индии и Китая. Но, с одной стороны, их освоение требует колоссальных вложений, которые никого, кроме небезопасного для Запада интереса Китая и арабов, не вдохновляют. С другой,– это будет всего лишь продолжением того же экстенсивного пути.
Точно той же логике следовали и т.н. «новые финансовые технологии». Периодически возникающие новинки, вроде фьючерсов и деривативов, были инструментами (не существовавшими ранее видами ценных бумаг), способ же их обращения («технология») оставался прежним, как в популярной книге Теодора Драйзера «Финансист», в которой описаны события полуторо-вековой давности.
Если надежды на возможность качественного роста капитализма не беспочвенны, то его предпосылкой должно стать общее понимание того, что на мир нельзя более смотреть, как на 12 банальное сырье для своей деятельности или как на в прямом смысле театральную сцену, где идёт игра интересов виртуальных персонажей. Он, действительно, стал нашим общим и очень компактным домом, и вести себя в нём надо соответственно данному факту.
Следующий, непосредственно связанный с последним из вышеперечисленных пунктов, вызов звучит так: сможет ли экономическая наука выйти из зачаточного, дескриптивного состояния, где нет согласия даже по прошедшим событиям, и придти, как это случилось с ботаникой и зоологией, выросшими в биологию, к работающим теориям? [23] Третий вызов принадлежит Китаю. Станет ли он главным бенефициаром кризиса или погрузится из-за него в хаос,– любой исход окажет самое глубокое влияние на ситуацию в мире в целом.
Уже сейчас Пекин через систему парткомов на работающих в Поднебесной иностранных предприятиях знает всё о движении их сделок и финансов. Он открыто заявляет, что не собирается никому помогать (сотни тысяч работавших в Китае западных фирм уже рухнули) или делиться с кем-либо своими резервами, предпринимает атаку на доллар и, опираясь на непонятно, на что рассчитывающую Москву, требует реформы МВФ и уверенно продвигается к превращению юаня в резервную валюту, заодно, наряду с арабами Залива, оптом скупая недра и земли Африки. Коли всё сложится для него удачно, это будет не просто возврат к ситуации, которая в последний раз была в XVII веке, когда Восток, а не Запад лидировал в техническом отношении. Китай ещё получит и все шансы превратиться в диктатора планетарного масштаба. В противном случае – падая – он вполне способен, благодаря имеющейся у него информации, утянуть за собой развитые государства.
[1] См., например, Дж.Перкинс. Исповедь экономического убийцы. М.: Проспект, 2007
[2] См., например, интервью Нуриэля Рубини (Нью-Йорк) газете «Известия» за 17 марта 2009 года.
[3] Е.Г.Ясин, М.В.Снеговая. Тектонические сдвиги в мировой экономике: Что скажет культура. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2009
[4] См., со всеми необходимыми цитатами: А.Сен. Развитие как свобода. М.: Новое издательство, 2004, с. 142-148 и 149-151.
[5] Ср. его критику: Ж.Бодрийар. В тени молчаливого большинства, или Конец социального. Екатеринбург: Изд-во
Уральского университета, 2000
[6] См. Ф.В.Шелов-коведяев. Какая экономика нам нужна? // Мир России, 2004, т.14, №1, с. 145, 153; Ф.-А. фон Хайек.
Контрреволюция науки. М.: ОГИ, 2003, с. 137-223
[7] Цит. по: Б.Уоррен. Почему лидеры не могут руководить. М.: Проспект, 1999
[8] См. В.А.Мау. Особенности, причины и возможные последствия текущего экономического кризиса // В кн.: Финансовый кризис в России и мире. М.: Проспект, 2009, с. 168
[9] Ср. Мау. Указ.соч. С. 166
[10] Ср. Мау. Указ.соч. С. 170
[11] Доклад Президента Мирового банка на сессии МБ 26 апреля 2009 года
[12] Статья в газете The Financial Times за 15 ноября 2008 года
[13] Указ.соч.
[14] М.Гилман. Для многих стран МВФ остаётся единственным финансовым прибежищем // The New Times, 23 марта 2009 года
[15] Пресс-конференция 16 марта 2009 года
[16] Мау. Указ.соч. С. 167
[17] Р.М.Энтов. Некоторые проблемы исследования деловых циклов // В кн.: Финансовый кризис в России и в мире. М.: Проспект, 2009, с. 30-31; Мау. Указ.соч. С. 171
[18] Мау. Указ.соч. С. 166
[19] Энтов. Указ.соч. С. 14 сл.
[20] Там же. С. 26
[21] Там же. С. 30, 38
[22] Ср. Мау. Указ.соч. С. 173 слл.
[23] Ср. Энтов. Указ. соч., с. 6: «Теория экономического цикла развивается практически уже около двух столетий. Но никогда и никому ни один из кризисов предсказать не удалось»
Читайте другие материалы журнала «Международная жизнь» на нашем канале Яндекс.Дзен.
Подписывайтесь на наш Telegram – канал: https://t.me/interaffairs

 19:35 27.05.2014 • Ф. В. ШЕЛОВ-КОВЕДЯЕВ, профессор факультета мировой экономики и мировой политики ГУ ВШЭ
19:35 27.05.2014 • Ф. В. ШЕЛОВ-КОВЕДЯЕВ, профессор факультета мировой экономики и мировой политики ГУ ВШЭ