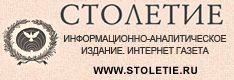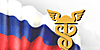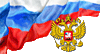Формирование постглобального мира находится еще в начальной фазе развития, но уже сейчас можно говорить о том, что целый ряд черт нового мира в основе своей уже понятен и дальнейшее их развитие будет связано с уточнением деталей, пределов развития и ограничений.
Статья представляет собой элемент более широкого исследования. Часть сделанных выводов ранее была апробирована на академическом и экспертном уровнях1. Данный материал отражает фундаментальные сдвиги, произошедшие в системе глобальной политики и экономики уже в период развития пандемии коронавируса.
Все основные концепции постмонополярного мира были основаны на двух посылках: с одной стороны, трансформации должны были быть относительно плавными, не разрушающими основные институты глобального мира и сохраняющими основу глобальной экономической взаимозависимости. С другой - определяющим фактором глобального переустройства должна была стать экономика, изменение экономического веса крупнейших глобальных и трансрегиональных игроков. Очевидно, что нынешние изменения в глобальной политике не являются ни постепенными, ни экономически детерминированными. Они протекают противоречиво, подрывая многие базовые институты глобальной взаимозависимости, но в относительно высоком темпе. И, что самое главное, хотя конечной целью процессов является формирование нового геоэкономического пространства, на операционном уровне важнейшие стратегические решения принимаются исходя из иных соображений, нежели экономических2.
Важнейшими факторами становятся темп и основные особенности деградации американского глобального геополитического потенциала, способность к определяющему воздействию на глобальные тенденции без разрушения существующих политических и экономических институтов. Создается пространство для возникновения «зон конкуренции», где в той или иной степени будут сужаться возможности США, сперва операционные (Сирия, Ближний Восток в целом), а затем регулятивные, что приведет к возникновению ситуации, когда на ряде пространств американские юридические и фактические регулятивные возможности (включая и военно-силовые) не будут рассматриваться в качестве системообразующих. Это и будет началом процесса реальной институционализации процессов регионализации сперва в экономике, а затем и в политике.
Центральный фактор формирования пространства конкуренции на обозримую перспективу: относительное ослабление глобального влияния США и отпадение от сферы безусловного влияния Вашингтона отдельных пространств, как вследствие тех или иных региональных процессов, так и в результате «оптимизации» системы союзнических связей, осуществляемой администрацией Дональда Трампа. И жесткость этой оптимизации, вероятно, усилится при переизбрании Трампа на второй срок. Не исключено возникновение процесса «борьбы за американское наследство», что может способствовать формированию новых узлов противоречий и конфликтов в регионах, ранее считавшихся приоритетными, а также и пространства для формирования новых центров силы и влияния. Но США при этом будут еще относительно длительное время сохранять возможности управления этими процессами за счет ранее созданной инфраструктуры политического, экономического и гуманитарного влияния. Возникает ситуация дисперсного глобального доминирования США, что вполне вписывается в концепцию «лидерства» как антитезы «глобальному доминированию», в конце жизни активно продвигавшейся Зб.Бжезинским3. Характерно, что эта концепция может быть востребована лагерем, противоположным тому, к которому принадлежал Бжезинский.
Пять гипотез о постглобальном мире
Сейчас мы не можем в полной мере говорить о структуре будущего мира. Но мы можем выдвинуть пять гипотез относительно его фундаментальных оснований.
Первое. «Новый мировой порядок» должен иметь экономические обоснования, отражающие прогнозируемые последствия вхождения мировой экономики в новый «длинный цикл»4 экономического развития («цикл Кондратьева») и, соответственно, новую систему инвестиционных приоритетов. Черты «длинного цикла» уже обозначены в отдельных экономических трансформациях (нарастании асимметрий регионального экономического роста), но его развитие сдерживается пока за счет нецельного, «клочкового» внедрения элементов «четвертой промышленной революции» в реальный сектор экономики, а, соответственно, отсутствия выраженного глобального инвестиционного фокуса. Политические процессы до окончательного оформления доминирующих экономических тенденций будут носить неустойчивый и разнонаправленный характер, сохраняя, как минимум, на уровне базовых идентификаторов традиционные парадигмы постбиполярного мира и его атрибуты5.
Любая попытка построения глобальной или даже региональной экономической и политической архитектуры, не учитывающей фактор «длинного экономического цикла» и существенное обновление не только технологического уклада, но и социальной модели развития, просто не будет иметь успеха. Мы должны признать, что нынешний кризис носит геоэкономический характер и должен решаться не за счет изменения монетарных оснований экономического развития, как это происходит в большинстве стран мира, а через трансформацию геоэкономического пространства.
Второе. Противоборство «сетевого» и условно «иерархического» (государственнического) мира будет, вероятно, локализовываться в возникающих на стыке разнотипных пространств, которые могут быть отнесены к «серым зонам» влияния новых экономических и политических центров. В этих «буферных зонах» возможности прямой конкуренции, в том числе и силовой, расширены, что сокращает возможности прямого столкновения наиболее значимых «центров силы», но это же создает возможность для устойчивого существования и даже пространственного развития и сетевых структур, и «фейковых государств» (а прецеденты подобного рода были: например, продержавшаяся почти полтора года в 1919-1920 гг. Республика Фиуме на Адриатике, возникшая в «серой зоне» влияния, появившейся после распада Австро-Венгрии после Первой мировой войны. Тем более такое возможно в регионах с относительно флюидными государственными границами).
С другой стороны, появление в «серых зонах» «сетевых структур», в целом заинтересованных в разжижении влияния государств и имеющих возможности для эскалации напряженности и расширения использования военно-силового инструментария, в целом будет существенно снижать уровень глобальной и региональной политической стабильности. Вероятнее всего, в отличие от сценария С.Хантингтона6, предусматривавшего почти фронтальное если не столкновение, то конкуренцию цивилизационных парадигм (не столько экономических моделей, сколько внешних проявлений различия цивилизаций), конкуренцию в рамках модели игры с «нулевой суммой», мы столкнемся с относительно вялотекущими трансформациями, прорывающимися взрывными событиями в важнейших «точечных пространствах».
Такие конфликты-трансформаторы в совокупности будут выглядеть как попытка растянутой по времени геоэкономической и геополитической «торговли». Это делает принципиально важным отмеченный выше фактор относительного ослабевания США и зависимых от них в военно-политическом плане сателлитов. Именно за счет этого фактора, вероятно, и будут формировать наиболее привлекательные для постановки под контроль «серые зоны». Главный вопрос, определяющий характер нового миропорядка, - насколько быстро возникнет борьба за контроль над этими пространствами, насколько будет сильна политическая воля геоэкономических оппонентов США использовать фактор слабости Америки. Ибо инициирование борьбы за эти пространства будет в большинстве случаев означать выход за рамки формата глобальной геоэкономической взаимозависимости.
Третье. Институциональная политика начинает утрачивать свое значение как идентификационный фактор и существенно сокращает свое значение как фактор национальной мощи государств. В значительной мере это связано с разрушением того институционального пространства, на основе которого была сформирована глобальная политическая система. Тем не менее необходимо отметить, что разрушение институциональной базы глобальной политики началось не в связи с пандемией, а гораздо раньше, как часть процессов глобальной сетевизации и объективного ослабления государств, являвшихся главными источниками глобальной политической и в меньшей степени - экономической институциональности7.
Вряд ли можно говорить даже о том, что пандемия ускорила эти процессы. О чем можно говорить, так это о том, что целый ряд государств, не исключая США, Китай, Индию и ряд других стран, используют фактор пандемии и изменившегося политического контекста, чтобы снизить влияние тех институтов, где они не имели должного уровня влияния, как им казалось, включая Совет Безопасности ООН, НАТО, ВТО и ряд других.
Как результат, в совокупности с другими факторами, начинает формироваться «гибридная» политика, в том числе основанная на способности поддерживать национальный суверенитет по большинству параметров8, а также обеспечивать относительную цивилизационную самостоятельность. Главная проблема современного глобального политического пространства заключается в том, что основа политического влияния любого государства - государственный суверенитет становится экстравертным, то есть приобретаемым через способность «доказать» свою суверенность не внутри страны, через соблюдение законов и политических процедур, а во внешнем пространстве, в том числе и продемонстрировав нерезистентность к информационно-политическим манипуляциям9.
Четвертое. Фактором, оказывающим существенное влияние на формирование новых фокусов консолидации, может стать активное встраивание в геоэкономические процессы специфических национальных, религиозных или социокультурных общин, изначально действующих в сетевизированном формате и способных занимать важнейшие ниши, связанные с монетизацией и оборотом ренты.
Принципиальной проблемой всех государств и их коалиций, в той или иной степени задействованных в нынешнем цикле геоэкономической конкуренции, становится кризис социальной модели развития. В меньшей степени это касается Китая, в ходе противодействия пандемии продемонстрировавшего высокую эффективность механизмов перевода государства в предмобилизационный режим. Но и в этом случае возникают существенные проблемы, связанные с невозможностью дальнейшего поддержания социальной устойчивости через реализацию модели «рост через потребление».
В большинстве других стран социальная атомизация достигла и до пандемии того уровня, когда возможности «анклавных» социальных и иных сообществ существенно расширяются, а они получают не только социально-экономический, но и в перспективе - геоэкономический потенциал. Прецеденты временного, но среднесрочного симбиоза национальных сетевизированных общин описаны в литературе с исторической точки зрения10, но уже и в нынешнюю историческую эпоху этот фактор проявился в ходе, например, «арабской весны» и в меньшей степени - «левого разворота» в Латинской Америке.
Возникновение и относительно длительное существование геоэкономически значимых пространств в ренто-профицитных регионах (Дальний Восток, Ближний и Средний Восток) создаст для таких национально-экономических сетевизированных структур дополнительное пространство развития, которого они в значительной мере были лишены в эпоху доминирования экономического мультикультурализма (что, например, очень ощущалось в ходе последнего цикла экономического роста в Юго-Восточной Азии). Важным обстоятельством в данной связи может стать то, что это могут быть не только традиционные, но и вновь сформировавшиеся национальные и культурно-религиозные общины, формирующиеся на синкретической основе и имеющие относительно высокий уровень замкнутости («секты»).
Пятое. Глобальный вооруженный конфликт маловероятен в силу того, что фактор ядерного сдерживания на глобальном уровне продолжает быть актуальным, но конфликты меньшего уровня становятся все более реальными в силу утраты культуры эскалации нынешними политическими элитами Запада. Это создает большие риски выхода из-под контроля - под воздействием ситуативных факторов - региональных конфликтов. Возможно возникновение ситуации сложных стратегемных действий с отложенным результатом11. Но по мере системной деградации геополитической модели поздней глобализации устойчивость системы сдерживания даже в ядерной трактовке входит в пространства операционной неопределенности.
В то же время экономический кризис может стать «запалом» для начала серии региональных вооруженных конфликтов, связанных с попытками формирования новых экономических механизмов и защиты перспективных пространственных или инфраструктурных активов. Это будет естественным образом стимулировать разрушение глобальных инвестиционных механизмов, построенных на принципе виртуализации финансов, уже сейчас находящихся в состоянии явного кризиса универсальности. Решение подобных экономических задач требует высокого уровня военно-силовой защищенности экономических пространств от неэкономических (гибридных) угроз любого уровня, а не только низкоинтенсивных. Необходимо учитывать возможную динамику развития рисков в условиях почти неизбежного расширения пространства для применения военно-силовых инструментов. На определенном этапе развития мы не можем исключать потребности в возобновлении убедительности ядерного сдерживания как фундаментального основания глобальной политики.
Россия в контексте глобальных перемен
Россия в процессах глобальных трансформаций находится под воздействием сложной и диалектически противоречивой системы факторов: с одной стороны, она не может играть роль полноценной глобальной державы, ибо не обладает потенциалом полноценного глобального проецирования силы и политического влияния, а также масштабами экономики. Но именно это дает России необходимую «свободу рук», чтобы быть привлекательным «младшим партнером» практически для любой крупной коалиции «первого ряда», нацеленной на борьбу за доминирование в раннепостглобальной системе международных отношений. Одновременно сама Россия менее других стран заинтересована в сохранении архитектуры международных отношений и мировой экономики, существовавшей на этапе поздней глобализации, ибо в таком формате она имела минимальное пространство для развития, обладая наибольшим влиянием в тех глобальных институтах, которые в силу их характера были обречены на постепенное ослабевание. Прежде всего речь идет о Совете Безопасности ООН и системе международных договоров, унаследованных Россией от периода холодной войны.
С другой стороны, Россия имеет сравнительно много внутренних экономических и социальных уязвимостей, неустранимых только за счет внутреннего развития. В частности, к таковым относится целый ряд ресурсных и логистических уязвимостей и недостаточности. Это делает неизбежным для России при всей ограниченности ресурсов проведение политики по консолидации вокруг себя прото-макрорегиона, опираясь на различные факторы влияния, но проводя жесткую оптимизацию своих обязательств перед соответствующими государствами12 . Исходя из этого центральной задачей внешней политики России является борьба за признание - в той или иной форме, но, вероятно, постфактум - за Россией права на формирование контролируемого макрорегиона, возможно трансрегионального, а не глобального значения, развивающегося на базе управляемых Россией политических, социальных и экономических стандартов и охватывающих пространство, достаточное для выживания в условиях внешнего кризиса любой остроты и жесткости.
Такая многоаспектная двойственность положения России отражает незавершенность процессов строительства обновленной российской государственности и нерешенность вопроса о социальной модели развития на средне- и долгосрочную перспективу. Это обуславливает и особенности рисков для развития страны, которые пандемия не просто обостряет, а переводит из латентной в открытую (манифестированную) стадию. В наибольшей степени эти риски касаются внутреннего социально-экономического развития страны и недостаточного уровня социальной и инфраструктурной связности, несоответствия нарастающего постиндустриального характера социальной структуры страны задачам ее развития, соответствующих преимущественно индустриальной модели, а частично даже связанных с необходимостью реиндустриализации, восстановления на обновленной технологической базе того промышленного потенциала, утраченного в 1990-х годах.
Стратегический приоритет развития России мог бы быть определен следующим образом: невозможность долгосрочного развития в формате региональной державы, но критичность восстановления регионального лидерства, что, в свою очередь, невозможно без выхода на новый уровень развития российской государственности. Это определяет последовательность решаемых Россией задач, но одновременно невозможность полного разделения внутреннего и внешнего в российской политике.
Также существует и целый ряд факторов, касающихся «внешнего контура» развития российской государственности. К ним можно было бы отнести:
• Кризис постсоветской политической и экономической институциональности. Вероятно, это можно считать наиболее острым риском, требующим принятия решений на государственном уровне. Россия не сможет обойтись без элементов евразийской интеграции, но эта интеграция не может более реализовываться только в экономической сфере.
• Логистическая уязвимость России, наличие у потенциальных геоэкономических конкурентов России возможностей оказывать давление на российские экспортные потоки, значимость которых в обозримой перспективе возрастет в силу общего сжатия несырьевого сегмента мировой торговли и повышения значимости ресурсного экспорта, в особенности в неэнергетической сфере.
• Возможность возникновения «серых зон влияния» вблизи границ России, неконтролируемых на уровне постсоветских национальных государств, способных стать анклавами для вызревания радикально-деструктивных тенденций в условиях отсутствия скоординированных политических и военно-силовых действий со стороны государств Евразии.
• Перспектива интернационализации наиболее значимых в экономическом плане пространств, включая и возможность формирования вблизи территории России пространств, откуда может осуществляться военно-силовое давление. Наиболее критическим с точки зрения интересов России является возможность усиления внешнего присутствия в Прикаспийском регионе, но также озабоченность вызывает ситуация в Центральной Азии.
• Уязвимости управленческо-информационных систем, основанных на импортированных стандартах цифровых технологий. Это становится одним из важнейших факторов технологической зависимости для России. Решение данной задачи не только на уровне программного обеспечения, но и производства аппаратного оборудования и создания соответствующей инфраструктуры способно стать основой для нового инвестиционного цикла в российской экономике, о чем говорил Президент России В.В.Путин в Послании Федеральному Собранию.
Важно отметить, что большая часть указанных выше рисков относится к требующим военно-силовой реакции или содержащим внутри себя заметный военно-силовой компонент, хотя бы и лежащий в сегменте «низкой интенсивности». В целом Россия стоит перед перспективой повышения значимости военного потенциала для локализованного применения силы, что требует гораздо большей гибкости системы не столько военного управления, сколько военно-политического. В связи с этим правомерен вывод, что для России в процессе глобальных трансформаций важнейшим фактором будет относительное повышение значимости военно-силовых инструментов для обеспечения полноценного пространства для развития. Но одновременно это ставит задачу существенного повышения качества стратегического управления военной сферой государства13 и создания - во многом с использованием китайского опыта - инструментов перевода государства и общества в предмобилизационное состояние, что само по себе может стать инструментом сдерживания. Само понятие «предмобилизационное состояние» нуждается в политической и юридической легализации, дающей возможность обеспечивать операционную эффективность деятельности органов государственного и военно-политического управления в новых условиях.
Вместо заключения: сценарии трансформации
Система глобальной политики обречена на среднесрочную многовекторность с элементами хаотизации в наиболее слабых точках («звеньях»), неспособных выдержать относительно долгого социального напряжения внутри себя. Это принципиально противопоставляет друг другу кратко- и долгосрочные приоритеты развития: для большинства стран ядром краткосрочных приоритетов является сохранение и, при возможности, усиление внутренней социально-экономической устойчивости и формирование системы, как минимум, умеренного экономического роста за счет драйверов, не связанных с мировой торговлей. Соответственно этому главными будут являться механизмы внутреннего социального и экономического управления и стимулирования, тогда как военно-силовые инструменты должны быть нацелены на обеспечение безопасного развития, нейтрализацию внешних вызовов и рисков, как являющихся результатом спланированной политики отдельных государств, так и проявившихся в ходе объективно развивающихся глобальных и региональных процессов.
Основой долгосрочных приоритетов для большинства претендентов на роль центра геоэкономической консолидации является формирование вокруг себя защищенного геоэкономически значимого пространства и обеспечение его структурной и технологической целостности. И в этом случае значение военно-силовых инструментов существенно возрастет хотя бы в силу резкого роста приоритетности охраны внешних границ такого пространства и обеспечения его политической устойчивости в ходе конкуренции с другими пространствами. Другим фокусом становится способность государства к контролируемой политической и экономической институционализации, то есть формированию структур взаимодействия, где это государство имеет решающий голос, обеспечивая масштабирование национального экономического суверенитета.
Фактически речь идет о способности крупнейших и наиболее активных национальных государств обеспечить относительно управляемый выход из ситуации, сковывающей потенциал развития системы американоцентричной взаимозависимости, не влекущий необратимых политических и экономических последствий. Но для этого только потенциала экономического влияния и экономической институционализации, вызревающего в «G20», оказывается недостаточно.
Именно с таким пониманием связано предложение Президента России В.В.Путина о проведении встречи лидеров пяти государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН, несущих особую ответственность за стратегическую стабильность. Принципиальной проблемой современного мира является резкое усиление в политических и военно-политических процессах элемента непредсказуемости. Уровень стратегической непредсказуемости настоятельно необходимо снизить, как минимум, на краткосрочный период, являющийся наиболее острым с точки зрения предельных рамок глобальных и региональных трансформаций. Основа для диалога, вероятно, должна заключаться в трех содержательных платформах:
• Признание неизбежности перемен и отказа от однополярного мира. США могут еще определенное время оставаться первыми среди равных, хотя бы из-за наиболее сильного потенциала глобального проецирования силы. У других крупных стран такой потенциал, но явно в усеченном виде присутствует только у России и Франции, но отсутствует, например, у Китая и совершенно деградировал у Великобритании. США должны признать невозможность сохранения экономически однополярного мира, основанного на становящейся все более несбалансированной и даже паразитической американоцентричной финансовой системе. В таком случае формирование геоэкономической многополярности имеет шанс быть относительно эволюционным.
• Необходимость сохранения и укрепления стратегической стабильности и достигнутых ранее договоренностей о нераспространении ОМУ и исключении или ограничении милитаризации целого ряда пространств конкуренции (например, космоса). На этапе трансформаций глобальных политической и экономической систем неограниченная гонка вооружений может оказаться губительной для всех, и не только с чисто экономической точки зрения, но и в плане укоренения в политической и военно-психологической психологии запроса на превентивные действия в условиях глобальной неопределенности и непредсказуемости.
• Несмотря на то что на нынешнем этапе маловероятно достижение каких-либо долгосрочных экономических договоренностей и тем более создание относительно устойчивой архитектуры мировой экономики, было бы крайне полезно обнулить наиболее дестабилизирующие аспекты санкционной системы, сформировавшейся в 2018-2019 годах не только и не столько в отношении России, но также в отношении Китая, Ирана и ряда других стран. Это снизило бы вероятность взрывного распада системы международных экономических отношений, что вполне вероятно в случае продолжения давления США на Китай. Вполне разумным компромиссом мог бы быть даже мораторий на введение новых санкций одностороннего или многостороннего характера. Мировой экономике надо дать шанс стабилизироваться.
1Евстафьев Д., Ильницкий А. Глобальный кризис как запал геоэкономических трансформаций: вызовы для России // Международная жизнь. 2019. №12 // https://interaffairs.ru/jauthor/material/2289. Дата доступа: 11.05.2020.
2О нарастании недостаточности монетарных методов управления многократно писали и западные специалисты, признавая в том числе и принципиальную невозможность дальнейшей критериальной оценки развития мировой экономики и национальных экономик на базе традиционной системы индикаторов. См., например, Гэмбл Э. Кризис без конца. Конец западного процветания. М.: Издательский дом Вышей школы экономики, 2018. 304 с.
3Бжезинский Зб. Америка и мир: Беседы о будущем американской внешней политики / Збигнев Бжезинский, Брент Скоукрофт. М.: Астрель, 2012. 317 с. [3].
4Клинов В.Г. Большой цикл мировой экономики в XXI веке // Мировая экономика и международные отношения. 2016. Т. 60. №12. С. 5-16 // https://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=1248&file=https://imemo.ru/files/File/magazines/meimo/12_2016/5-16Klinov122016.pdf
5Nye Joseph S. Jr. Will the Liberal Order Survive? The History of an Idea // Foreign Affairs. January/February 2017 // https://www.foreignaffairs.com/articles/2016-12-12/will-liberal-order-survive. Дата доступа: 03.02.2019.
6Huntington S.P. The Clash of Civilizations and the remaking of the World Order. New York: Simon&Shoster, 1996. 368 p.
7Фукуяма Ф. Угасание государственного порядка. М.: Издательский дом АСТ, 2017. 704 с. С. 35.
8А эти параметры включают в себя и внутренний политический суверенитет, и относительную защищенность основных компонентов экономической системы, и способность обеспечивать продвижение собственной «повестки дня» в международных институтах, и каналах коммуникаций. Реальный национальный суверенитет предполагает решение этих задач в немобилизационном режиме.
9Евстафьев Д.Г. Информационные манипуляции и государственный суверенитет: риски для России // Гражданин. Выборы. Власть. 2019. №2. С. 98-110.
10Харрисон Л. Евреи, конфуцианцы и протестанты: культурный капитал и конец мультикультурализма. М.: Мысль, Фонд «Либеральная миссия», 2016. 286 с.
11Особенно интересны рассуждения Б.Лиддела Гарта об интегративном характере и целях войн как таковых и целях военных кампаний как их элементов. Лиддел Гарт критикует подход К.Калузевица. Лиддел Гарт Б. Стратегия непрямых действий. М.: Астрель; Владимир: ВКТ, 2012. 508 с. [4]. С. 482-484. По мере развития интегративность операционного пространства и военно-силовых и экономико-силовых действий (с такой гибридностью мы будем иметь дело в обозримой перспективе) только возрастала, а характер взаимодействия усложнялся и становился нелинейным.
12Как писал российский исследователь В.Л.Цымбурский, правда применительно к периоду конца 1990-х годов, многие черты которого повторяются в настоящее время с поправкой на технологии и сокращение пространства для «игры с ненулевой суммой»: «В мире, колеблющемся между (поддерживающими себя в каком-то смысле) хаотизацией и разрушительными претензиями гегемона, Россия не может брать на себя глобальной ответственности, но лишь ответственность за себя и за тех, кто, по ее согласию, отождествляет себя с ней». - Цымбурский В. Конъюнктуры земли и времени. Геополитические и хронополитические интеллектуальные расследования. М.: Европа, 2011. 372 с. С. 15.
13Кокошин А.А. Политико-военные и военно-стратегические проблемы национальной безопасности России и международной безопасности. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. 261 с. [3]. С. 85.