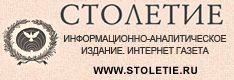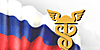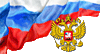Написанные в 1970-х годах, мемуары Е.П.Палиевской (1912-2008 гг.) охватывают почти 30 лет семейной истории на фоне истории нашей страны. Из семьи русской дореволюционной интеллигенции, она провела безмятежное детство, молодость ее совпала с первыми годами советской власти, затем война, жизнь в оккупации, фашистские лагеря и наконец возвращение на Родину. Писала только для семьи. В условиях того времени не могла даже упоминать, что она, муж, ее родители и четверо детей во время войны находились в оккупации и плену, придумала себе псевдоним Вера Ивановна, муж Василий Михайлович стал Николаем Ивановичем. Постепенно, увлекшись, забывала о страхе и начинала писать от первого лица. Предлагаем читателю несколько отрывков из этих воспоминаний об испытаниях русской семьи в годы Великой Отечественной войны. Мемуары в настоящее время готовятся к печати.
1941 год мы встретили очень весело в кругу своей семьи, никто и не предполагал, что этот год несет с собой. Правда, где-то внутри сидел страх перед неизбежной войной, но семейное благополучие усыпляло тревогу о будущем. Новый год, елка, Рождество, которое у нас всегда отмечалось особенно, так как совпадало с моими и мамиными именинами, продвижение Васи по службе в Смолстрое, дети - один другого лучше, снабжение - кое-как терпимо плюс хорошие рынки - все шло к лучшему, все радовало. Радостными оказались и первомайские праздники. Все здоровы, впереди - лето, дача. Сразу после мая наступили холода, и мы никак не могли вырваться на дачу, наконец 20 июня, в пятницу, двинулись со всем скарбом. Как сейчас помню, трава благодаря проливным дождям была чуть ли не по пояс, погода установилась. 22 июня, забрав Петю, Вася пошел на маевку к рабочим. И вдруг свершилось то, чего мы боялись и отгоняли засевшее в мыслях предчувствие. «Война!» - объявили по радио. Прибежал Вася с маевки и тут же на машине уехал в город. Сквозь деревья мне хорошо видно шоссе, где пешком и на машинах по направлению к городу уже движутся люди. Страшно и жутко одной с детьми на даче. Поздно вечером вернулся Вася: «Завтра утром и мы уезжаем в город - неизвестно, что будет».
К 8 утра мы уже в городе. Смоленск не узнать. Все взволнованы, появились удрученные и молчаливые беженцы с запада, ничего не рассказывают, но их вид объясняет все. В первую ночь - тревога, слышен гул самолетов. Дети спят в пальто. На вторую ночь с толпой уходящих из города людей мы также уходим из города. Дети идут пешком, у каждого узелок. Юля на руках. Ночь светлая. Решаем остановиться у знакомых на самом краю улицы, уходящей в крепостной ров. Не спим всю ночь. Днем радио объявляет, что бои в Борисовском направлении. Из города началась эвакуация детских садов. Приходит Вася и предлагает мне с детьми отправиться в подшефный колхоз на станцию Духовская, в 20 км от Смоленска, туда везут семьи «Смолстроя».
На следующий день приехал грузовик, и я с детьми, корзиной вещей и даже с детской кроваткой погрузились в переполненную людьми и разным скарбом машину. Попрощалась с Васей, боясь в душе, что больше его не увижу. Вася еще долго был виден идущим за машиной. Все женщины плакали. Я держалась, так как слишком много забот: ни у кого нет столько детей. Нас разместили в правлении совхоза, в хорошо сохранившемся помещичьем доме. В огромном зале каждая семья заняла себе «угол», занавесилась и стала обживаться. Разожгли костер, сварили нехитрое варево, нам выделили немного картошки и чего-то еще.
Женщины должны были ходить на работу. В первый же день я устала до изнеможения - идти в ряду, не отставая от идущих впереди и переворачивающих сено. На следующий день поздно вечером приехали Вася и папа. Картина в городе такая: все работают на указанных местах, эвакуируются только дети, на ночь все уходят из города. Ничего не объясняют, и никто не знает положение на фронте. Все выполняют приказ и остаются на своих местах.
На следующий день мне удалось побывать на станции Духовская и посмотреть воинские эшелоны. Как сейчас, перед глазами длиннющий поезд, товарные вагоны, набитые красноармейцами, и радист с рацией, сидящий в наушниках. Этот вид радиста с наушниками дал мне зримое представление о войне. Я смотрела на лица солдат, каждому в душе желая сохранения жизни. Осталась ли она? Наверняка нет. Это были первые эшелоны.
28 июня - очень жаркий день, томительно страшно прислушиваться к каждому звуку самолета, вечером не зажигаем свет, все сидим на веранде и чего-то ждем. Вдруг отдаленная стрельба и страшное зарево озаряет небо. Вскакиваем, кричим: «Боже мой, самолет горит! Да как горит!» За 20 км у нас светло, как днем. Все небо впереди огненное. А дети спят. Петя проснулся, но боится встать. По зареву стараемся угадать, какая часть города горит, в огромном зареве есть промежуток.
Рано утром, оставив детей, некоторые женщины решают идти в город, чтобы узнать о происходящем. Мама, беспокоясь о папе, тоже уходит. Весь день провожу в страшной тревоге.
Поздно вечером возвращаются женщины, мама осталась в городе. Город зажжен в разных местах фугасными бомбами. Пожар продолжается. Сгорело Заднепровье и верхняя часть города, почти вся. Центр тоже сгорел, но некоторые улицы уцелели, наш дом партактива цел. Собор цел. Дом союзов, мединститут и пединститут сохранились.
Через два дня, вечером, приезжает Вася навестить нас и предлагает мне переехать подальше от города еще за 40 км, на цементный завод, на этом заводе в конторе обещали выделить нам «уголок», завод - от треста «Смолстрой». Машины у треста уже изъяли, и Вася обещал прислать подводу.
5 июля, вечером, приехала подвода со стариком-кучером и мы тронулись в путь. Дорога проселочная. Тихо кругом. Страшно думать, что будет дальше. В середине дня подъехали к Днепру. Въезжаем на паром. Медленно отчаливаем, вот и середина реки. И вдруг - гул самолета. Пока рассматривали знаки самолета, он уже далеко. Мы даже не успели испугаться, но ясно увидели черно-белые кресты. Верно, не хотел немец тратить на нас пули. Испуг пришел после, когда перебрались на другой берег. Возница сказал: «Ну, Бог пронес, а я думал - смерть пришла». После этих слов не осталось в душе ни минуты покоя.
К концу дня добрались до деревни Субровка, где находился цементный завод. В конторе мне выделили «угол», разрешили на плите готовить и предупредили, чтобы дети не ходили на речку, и вообще не выходили из деревни: вокруг водилось невероятное количество змей. Плачущие бабы расспрашивали меня, что и как, но я сама мало знала - пожар города видела только по зареву. Накормила детей, кое-как уложила на полу на принесенном сене, опасаясь, нет ли в нем змей. Всю ночь слышали гул самолетов и отдаленную стрельбу.
Утром 7 июля - печальные вести: около деревни упал наш горящий самолет. Один летчик сгорел совсем, а другой еще жив. Деревенские женщины носили бидонами молоко и обливали его молоком и своими слезами. Но напрасно - спасти его было невозможно.
Днем приехал какой-то уполномоченный в обязательном порядке набирать на рытье противотанковых укреплений всех женщин, способных держать лопату. Хотели забрать и меня, но я отказалась. Юля, младшая, год и три месяца, совсем еле ходит за ручку, Мише - два с половиной, Ляле - четыре года, Пете 1 мая исполнилось девять лет.
С наступлением вечера начинает заполнять душу невыносимый страх. Тихо, одна в конторе с детьми, прислушиваюсь к малейшему звуку. Ночью все время летят самолеты. Куда? Какие? 8 июля поздней ночью, на несколько часов до рассвета, приехал Вася. Положение в городе не изменилось. Все работают на прежних местах. На фронте по радио то же самое: «В Борисовском направлении…» Многие жители эвакуируются сами, кто как может.
Каждый день - в тревоге и полной неизвестности. Так живем до 16 июля. Рано утром 16 июля около Субровки по дороге и по самой деревне потянулись беженцы. На велосипедах, в детских колясках - вещи, кто с узелком, кто гонит корову, а на спине узел. Прошло их много, все торопились, почти ничего не отвечали на расспросы. Беженцы идут по направлению к Ельне. Поняли мы одно: Смоленск уже занят или его вот-вот займут немцы. По какому-то внутреннему голосу чувствую, что не надо бросаться в общую панику, следует еще подождать, может получу какое-то известие от Васи или сам он приедет. Собираю вещи и одеваю детей во все зимнее. Завязываю деньги, документы на груди. Дети не капризничают. Кажется, понимают серьезность положения и сидят тихо.
Так проходит день, а беженцы идут и идут. И вдруг слышу гул автомашины. Боже мой! Вася приехал, на газике, да не один! С ним из треста техник со своей матерью и Васина сестра Надя. Запыленные, взволнованные, рассказывают: как всегда работали, на ночь ушли, а утром в пять часов, двигаясь к городу по шоссе были остановлены нашими отступающими воинскими частями и вместе с ними двинулись опять от города. Сказано двигаться в Ельнинском направлении, чтобы пробраться в Козлов, где находится военкомат.
Мы все решили прямо сейчас отправиться туда же. Узкая лесная дорога, засохшая глина, рытвины, ехать почти невозможно. Кругом идут беженцы. Дети в машине, она еле-еле ползет. У нас лошадь с повозкой. Какие-то люди положили свои вещи на нее. Темнеет, 9 вечера, какая-то деревушка, сбежавшиеся жители сообщают, что дальше не проедешь, дорога упирается в железнодорожное полотно. Мы попали в окружение, 8 км от станции Глинка. Впереди слышится перестрелка, наступает ночь. Решили переночевать, но, конечно, не спали. Чуть стало светать, вышли на тропинку за деревней. Навстречу бегут два красноармейца: «Куда вы? Не видите, немцы едут!» Мы упали на землю. За рожью видны проезжающие друг за другом зеленые автомобильчики. Мы бросились обратно в деревню, где друг за другом, впоклад спали дети. Вперед идти нельзя. Надо переждать. Наши мужчины закатили машину в сарай и завалили ее сеном, а мы спрятались в доме. День прошел тихо. Что делать? Кое-кто из пришедших с нами решает повернуть назад в Смоленск: дома и стены помогают! Но нам нужно в Козлов, у нас мужчины призывного возраста.
Ночью опять не спали. Вот вдоль забора пробираются два красноармейца. «Не бойтесь, товарищи, - говорим мы, - здесь нет немцев». Накормили их чем могли. Узнали, что они из 20-й армии, все мы в окружении, но будет прорыв, и тогда сможем продвигаться дальше. Среди ночи пришла еще группа военных. Среди них политрук, фамилия Сафронов. Просит меня сварить что-нибудь для военных, прячущихся в лесу, там же находится и командир, кажется, Корнеев (фамилию точно не помню). Рано утром затопили печку и сварили два ведра супа, положили в суп все, что можно было из круп, какие несли с собой, еще разных овощей, шкварки сальные. И все это они благополучно унесли в лес. Но припасы у нас подходили к концу. Я пошла по деревне чего-нибудь достать. За деньги ничего не давали, а вот вещи детские имели большой успех. Наменяла порядочно продуктов. Покормила детей. Вечером, позднее, опять пришли красноармейцы за варевом. Всего приходили три раза. Больше не приходили. Хотелось надеяться, что они прорвались, если не попали под немецкие пули.
Находясь в окружении с малыми детьми и с мужем, который каждую минуту мог быть схвачен и расстрелян немцами, я все время надеялась на хороший исход.
Вдруг появилось объявление, подписанное оккупационным городским управлением: «Cкрывающимся в деревнях незамедлительно явиться по месту своего довоенного проживания, иначе лица не явившиеся будут подвергнуты аресту». Деревня всполошилась, местные стали выгонять расселившихся беженцев: «Уходите, уходите, тут из-за вас и нас убьют, здесь вы не спасетесь». Что делать? Выхода нет. В соседней деревне достали молока, помыла детей в речке, остались переночевать. Хозяйка дома рассказала, что евреев отделили в особый лагерь, у каждого на рукаве желтая нашивка.
Всех беженцев из деревни погнали обратно в город.
Тяжело встретили новый, 1942 год. Кругом радующиеся пьяные немцы. С началом года пришло и тягостное чувство, что до конца войны еще очень далеко, а что дальше будет - никто не знает. До каких пор Красная армия будет отступать, неужели до Волги? А дальше что? Просторы наши бесконечны. Удручало беспокойство о будущем: вот придут наши, наступит нормальная жизнь, а будет ли она нормальной для людей, попавших в оккупацию? Пойди попробуй доказать, что ты ни в чем не виновен. Вера Ивановна прекрасно помнила 1937 год.
В городе находился пединститут. Красивое здание с огромной библиотекой и книгохранилищем, насчитывавшим тысячи ценных книг. Разнесся слух, что книгохранилище выброшено на улицу. Не веря этому, Вера Ивановна со старшим сыном Петей пошли туда. Вся улица на большом пространстве позади пединститута завалена книгами. Намокшие старославянские фолианты XV и XVI веков вперемешку с римскими философами в несколько слоев валялись в грязи. Шел мелкий мокрый снег, и люди, ходя по отсыревшим книгам, палками раскидывали их и складывали в мешки. На вопрос Веры Ивановны: «Что вы роете?» - ответ был: «Ищем сухие на топливо. Сейчас не до чтения». Вера Ивановна с Петей тоже стали рыться и выискивать все, что еще можно сохранить. Петя не мог оторваться от книг и продолжал ходить и ходить на это книжное побоище, но вскоре оно было затоптано, развеяно по ветру и наконец сковано морозом…
Население быстро разобралось в отличии простых немецких солдат от эсэсовцев и гестаповцев. В городе стояло много тыловых частей, обслуживали их пожилые немцы. Те сами боялись эсэсовцев и с удовольствием посещали русских в их домах. На первом этаже дома Веры Ивановны жила простая семья. Туда зачастил ходить, соскучившись, видно, по своему дому, один старенький немец. Придет, положит на стол буханочку хлеба, сядет и молчит. Хозяйка похлопает его по спине и скажет: «Ну, комрад, трынкай чай». Тот радостно закивает головой и, ничего не говоря, выпьет несколько чашек пустого чая.
В это же время тут же, рядом, в лагерях, умирали от голода наши военнопленные. Один такой лагерь находился по дороге в город и представлял из себя пустырь, отгороженный колючей проволокой от остального поля. На четырех углах - сторожевые вышки. Ни единого барака или сарая. Близко подойти невозможно, но даже на расстоянии 50 шагов можно было видеть: пленные стоят в невыносимой тесноте, оборванные, с босыми ногами на холодной земле, многие без шинелей под дождем, а дождь непрерывно лил как из ведра. Полумертвые люди, потеряв человеческий облик от такого изуверского обращения, хрипло кричали и просили еды. Насмехающиеся немцы, проходя мимо ограды, бросали им, как собакам, какие-то куски, начиналась невообразимая свалка с человеческим воем, после чего охранники выкидывали через ограду трупы. Смотреть на это было невыносимо. До войны по радио часто говорили про ужасы фашизма, и Вере Ивановне всегда казалось, что это пропаганда, и не может такого быть. В действительности же оказалось, что радио не рассказывало и сотой доли о тех ужасах, которые пришлось увидеть.
Если выйти рано на улицу и пройти по направлению к шоссе, сразу можно было понять, что ночью гнали пленных, так как на обочине дороги в неестественных позах лежали трупы - страшные черные скелеты в рваных грязных шинелях. Ужасно было то, что все были бессильны им помочь. Однажды встретив такую колонну, Вера Ивановна попробовала бросить им морковь, и тут же получила от конвоира сильный удар по спине прикладом.
В другом конце города находился лагерь евреев - гетто. Оттуда никому нельзя было выходить, но еврейские дети каким-то образом проникали в город. Летом 1942 года в семью Веры Ивановны приходил еврейский мальчик, и она снабжала его чем могла. Он все время молчал, видно, так был напуган, что не мог говорить. При виде этого несчастного ребенка она невольно думала: а что если бы ее дети попали в такое положение? «Приходи почаще», - говорила она ему. Но вскоре он перестал приходить. В ночь с 13 на 14 июля 1942 года все еврейское население гетто было уничтожено. Ужасу русских, каких только ни знала семья Николая Ивановича, не было конца.
Все жили в неведении и страхе за свою участь, семья ни с кем не общалась, а кругом шла еще одна, чужая жизнь. В городе объявились так называемые «фольк дойче», то есть русские люди немецкого происхождения. К ним было совсем другое отношение, они находились на особом учете, имели хорошие квартиры, особые продовольственные карточки. Приходилось только удивляться, откуда все они взялись и как, получивши советское воспитание, вдруг сразу перекинулись в другой стан.
Осенью участились бомбардировки советской авиации. Не ожидая тревоги, одевали детей, брали с собой немного еды, документы, узелок с заветными вещами и уходили в подвал. Дети спали, прижавшись друг к другу, а взрослые, вслушиваясь в приглушенный гул самолетов, тихо переговаривались. В середине ночи бомбежка прекращалась и все выходили на улицу. Что бомбили? - был первый вопрос. Сестра Николая Ивановича жила отдельно. Проявляя особое бесстрашие, во время бомбежек она обычно накрывала подушкой голову и спала, не обращая внимания на стрельбу, но однажды она на своей кровати оказалась на улице, так как стены ее комнаты были разрушены.
Немцы прикладами согнали всех в одну колонну, кто-то сказал, что ведут на вокзал. На машину погрузили, как скот на убой. Через несколько дней - Польша. Белосток. Ровные пыльные улицы. Лагерь. Двойные проволочные заграждения. Едва стемнело, как раздалась сирена. Звук пронзительный и заунывный поднял всех. Сразу стал слышен нарастающий гул самолетов. Их очень много - что-то жуткое. Вдруг все явно услышали длинный, свистящий звук летящей бомбы. С людским криком ужаса барак потряс страшный взрыв, осветив, как прожектором, все вокруг. Загорелся соседний барак. Взрывы раздавались со всех сторон, один за другим, кругом все горело. Из барака вылетели рамы со стеклами, Вера Ивановна упала на троих младших детей, на старшего бросила пальто. Кто молился, кто дико кричал. Так продолжалось примерно два часа. Утром узнали, что бомбили вокзал, он был рядом. Лагерным объявили, чтобы собрали вещи, машин не будет и поведут всех на другой вокзал в конце города. Жара июльская, а на детях зимние пальто. Но как остаться без одежды? Выгнали строем из лагеря. Вера Ивановна связала полотенцем за руки троих младших, чтобы их не растерять, и одной рукой держала всех троих. Старший шел рядом, нагружен как большой. Надо отдать должное сострадательному населению. Выбегали польские женщины из домов, выносили воду и на ходу поили взрослых и детей, приговаривая: «Матка Боска, Матка Боска»…
Фалькенбург. Германия. Лагерь для пересыльных. Приказ раздеться догола. Ведут в газовые камеры - так думали все. Но это были не газовые камеры, а дезинфекция, напоминающая морилку для тараканов. Всех нас, мужчин, женщин и детей, поставили нагишом перед душевой, где окатили почти кипятком.
Не успели бросить свои пожитки на нары - новая процедура. Всех выстроили в очередь и раздали дощечки величиной с тетрадь, только поуже. На дощечке крупными черными цифрами пятизначный номер. Каждый должен подойти к столу, за которым сидят немка и немец. Немка держит фотоаппарат, а немец записывает имя и фамилию. Щелк фотоаппарата, и ты становишься уже как клейменное животное, с номером вместо имени. Чувство стыда затмило прошлый страх перед дезинфекционной камерой.
В соседней комнате нашего барака находятся ранее привезенные белорусские дети, возраста примерно от семи до двенадцати лет. Держатся обособленно, мало разговаривают, у всех наголо обриты головы. Кормили детей хорошо, но они не поедали всего хлеба и на солнышке сушили сухари. Для чего привезены они в этот лагерь? Страшно было думать, что из них готовят доноров.
Проволоки нет, но уйти невозможно. Куда? Без языка и документов. Начальство, два немца, все время пьяные, и занимаются они нами исключительно ради спасения своей шкуры: укрываются от фронта. В конце августа узнаем: нас повезут в Берлин на работы по очистке города после бомбежки.
В Берлине сопровождающий немец объявляет, что нужно проехать с пересадками на метро через весь город. Спустились в метро. Толкотня, тьма народу, дети в валенках и шубах идут впереди. Две пересадки прошли благополучно, а на третьей, втолкнувшись в вагон и охватив взглядом наличие детей, вдруг обнаруживаю, что нет младшей четырехлетней девочки. Состояние, равное тому, как если бы она на моих глазах провалилась в пропасть. Вася и я стали кричать и звать ее, думая, что, может, ее не видно среди стоящих людей, но нет ее нигде! Сидящие немцы всполошились и даже стали заглядывать под лавки. Момент ужаса потери, не передаваемый словами, а новая остановка приближается, и сопровождающий торопит продвигаться к двери, ему-то все равно! И вдруг чей-то голос кричит: «Кинд ист хиер» (Ребенок здесь!). Оказывается, какая-то женщина поманила девочку, прельстив ее сладкой булочкой, и та тихонько сидела в конце вагона на руках у женщины и спокойно уплетала эту булочку. Отдали ее нам с полным набитым ртом, а в руке - смятые хлебные карточки, которые дала ей немка.
Австрия. Альпы. Из окна видны селения внизу и австрийские кирхи. Здесь я почувствовала такой ужас, какой не испытывала во время бомбежек. Казалось мне, что мы едем в свой последний путь. Куда нас занесло? Это конец. Почему так все сложилось, все внутри меня протестовало, я резко разговаривала с родными, плакала, сердилась, и не помогало ничего.
Мы - в новом лагере, близ города Шпиталь. Лагерь новый, но та же процедура: наголо раздеться, и тебя ошпаривают кипятком. Наутро узнаем, что это бывший лагерь советских военнопленных, об этом красноречиво говорит кладбище за окнами барака. Через несколько дней всех мужчин отправляют в город Филлах, говорят, что на воскресенье будут привозить назад. Муж рассказал, что работают они на откапывании бомб, бомбят американцы все время. Один день Вася проводил с нами, но эта радость омрачалась сознанием, что в понедельник увезут его опять. Расставались каждый раз со слезами: а если во время очередной бомбежки, а они там непрерывные, его убьют, и останутся наши дети и я в чужой стране, без знания языка, как песчинки среди массы увезенных людей.
Еда в лагере - баланда, изредка картошка и крохотный кусочек хлеба, нужно как-то приспосабливаться, что-то доставать, чтобы кормить детей. Лагерные жители разделялись по два-три человека и отправлялись в горы на хутора. Некоторые брали с собой уцелевшие вещи на обмен, но большинство просто просили подаяние. Обычно крестьяне (бауэры) не прогоняли, а давали хлеб, кусочек сала, яблоки. Однажды, подойдя к хутору, Петя и я побоялись войти - путь перегородил неестественной величины сенбернар. Вышла пожилая хозяйка и впустила нас. Выяснилось, что ее сын на Восточном фронте попал в плен и спасла его одна простая женщина - спрятала раненого, выходила и помогла бежать. Хозяйка очень сочувственно к нам отнеслась и, снабдив салом и всевозможной снедью, пригласила приходить еще.
Кому из союзников достанется тот уголок Австрии, где находились мы, никто не знал, а мы ждали своих, и никакими словами нельзя выразить, как мы пережили весть о том, что Рейхстаг взят, Германия разбита окончательно. Бесконечная радость, щемящее чувство неизвестности - все смешалось. Несмотря на неопределенное положение, мы теперь чувствовали себя совсем по-иному: гордость за свою страну затмевала мысли о собственной судьбе.
А жизнь в городе продолжалась без изменений, как будто бы ничего и не произошло! В магазинчиках - те же аккуратные немцы взвешивают по карточкам граммы продуктов, все без очереди, в полном порядке. Тишина и спокойствие кругом, но все это внешне, а внутри каждого дома - волнение. Наверняка есть в семье убитые на войне или живые фашисты, а теперь им нужно дрожать за себя...
По дороге непрерывным потоком движутся военные части. Мы взобрались с детьми на гору, и вся панорама - перед нами. Проходила сортировка всех войск по зонам союзников.
Мы стали невольными наблюдателями отступающей армии казаков, перешедших на сторону немцев. Вот движутся телеги со скарбом, на телегах женщины, дети, узлы, самовары, рядом идут казаки в штанах с лампасами, следом за ними конница довольно грязно-потрепанного вида.
Потянулись все виды немецких войск, уже, конечно, пленных. Пушки, какие-то фургоны, машины с военными. Проехали, а мы все гадали: куда их везут? Прошел день, и эти же вереницы стали следовать в обратном направлении, и по другую сторону города пленные части устроились на ночлег. Наблюдая издали, мы видели костры, распряженных лошадей и людей, спящих на земле.
Яркое впечатление этих дней - проезжающие машины с военными из армии Тито. Стоя вплотную на машинах, партизаны Тито воинственно поднимали руки вверх и кричали: «Тито! Тито!» Эти машины обратно не вернулись, им везде была открытая дорога, а казачьи части и немцы ждали своей участи.
Довелось нам увидеть исчадие ада в лице атамана времен Гражданской войны Шкуро. Мы просто не поверили своим глазам: оказывается, он был жив и в эту войну воевал против нас. Маленького роста, плюгавенький, с револьвером на боку, он с трудом вместе с адъютантом вылез из обшарпанной машины и направился в английскую комендатуру.
Три-четыре дня длилась такая неразбериха в движении разных войск, потом все постепенно утихло и городок зажил прежней жизнью. Ну а нам что делать? Муж сходил в комендатуру, там сказали, что никаких распоряжений насчет нас нет.
В самом начале 1946 года неожиданно появились расклеенные по городу объявления на русском языке примерно такого содержания: «Граждане СССР, насильно угнанные в Германию! Возвращайтесь на Родину. Ближайший пункт для репатриированных находится в городе Клагенфурт. Советское правительство понимает, что это ваша беда, а не вина, даже тех, кто держал оружие против Советской армии. По возвращении на родину вам будет предоставлено медицинское обслуживание, жилье и работа».
Мы с мужем решили поехать в Клагенфурт и поговорить с репатриационной комиссией. От знакомых мы слышали, что там ежедневно принимают посетителей майор и полковник Советской армии, очень вежливо расспрашивают и обещают скорое возвращение на родину. Люди, живущие на первом этаже нашего дома, решительно сказали, что это ловушка для дураков и никуда они не поедут, а если и поедут, то только в Австралию. Они, как и я, слышали рассказы людей, проезжающих изредка через наш городок, бежавших из советских пересыльных лагерей. Все говорили одно: то, что написано - обман, а на самом деле - лагерь за тремя колючими проволоками. Появились мучительные мысли: а что если действительно все это обман и нас ждет тюрьма и ссылка на север? Я не хотела этому верить. Желание жить в своей стране было настолько сильным, что заглушало другие чувства, и я уподобилась бабочке, летящей на огонь...
Мы выехали поздним вечером и к утру добрались до Клагенфурта. Быстро нашли дом советского представительства. Прошло 30 лет с того дня, но и сейчас у меня замирает в груди, когда вспоминаю то наше душевное состояние. Еще бы! Не видеть почти пять лет своих, и вот сейчас это наконец произойдет! И когда из-за угла появились те самые два советских офицера и прошли в дом, не замечая нас, у меня буквально отнялись ноги. Видя мое душевное смятение, муж взял меня за руку: «Ну что, пойдем?» Мы поднялись на второй этаж, открыли дверь. Узкая комната, почти пустая, около окна стол, майор с полковником курят: «Проходите, проходите, не стесняйтесь» - первые нами услышанные слова…
Дальше все прошло как по маслу. Они нас обласкали словами, посочувствовали, заверили, что хотя нас на родине и не ждут молочные реки и кисельные берега, но работа, жилье и безопасность обеспечены. Полковник сказал, что договорится с комендатурой Гмюнда и сам пришлет за нами машину.
Прошел почти месяц. Вещи у нас были уложены, поэтому, когда приехала машина из Клагенфурта с приветливым письмом от полковника, уже через две минуты мы сидели в ней. Слух о нашем отъезде распространился как молния, все, знавшие нас, высыпали на улицу и с ужасом смотрели на нас, полагая, что мы едем на смерть. Никто не верил написанному в воззвании репатриированным.
В Клагенфурте советское командование встретило нас радушно. Репатриационный пункт помещался в центре города, вблизи фонтана (со скульптурой не то бегемота, не то крокодила). Полковник объявил, что мы здесь пробудем два-три дня, пока не соберется транспорт, отправляющийся в Вену. Нам отвели отдельную комнату с чистым бельем. В доме, кроме нас, находилось еще несколько человек, бывших пленных, работавших у фермеров-бауэров. Настроение у них было подавленное: от солдат, обслуживающих пункт, они узнали, что в Вене всех держат за проволокой, а потом оправляют в Россию в лагеря. Увидев нашу большую семью, с четырьмя детьми, с моими родителями, они попытались нас отговорить: «Зачем вы едете? Вас же разъединят и сошлют! Неужели вы верите, что на родине вам будет хорошо?» Я была в смятении.
Пошли мы с мужем в город, сели на скамейку около крокодила или бегемота, и я сказала: «Знаешь, еще не поздно, давай уедем обратно». Я сама начинала думать, что нас обманывают. «Нет, все это одни разговоры, ты решила ехать, значит, едем. Я готов на все». Когда мы вернулись в пункт, полковник нам сказал: «Я вижу, что вы волнуетесь - не волнуйтесь! Конечно, вы пройдете проверку; я надеюсь, что у вас все будет хорошо». Обернувшись ко мне, добавил: «Первую женщину встречаю, не переменившую в Германии русскую прическу». На следующий день за нами приехала машина из Вены.
Вот уже позади Клагенфурт, и мы едем по шоссе по направлению к Вене. Проезжаем какие-то небольшие городки, дорога - непрерывные спуски и подъемы, в горах виднеются полуразрушенные средневековые замки. Кончается английская зона, мы подъезжаем к шлагбауму, и через несколько метров - советская зона! На въезде стоит патруль, проверяет у нашего сопровождающего документы, нас пропускают и буквально через несколько минут меняется картина всего, что окружало нас по пути следования. Маленькие городки совершенно пустынны, кругом ни души! В домиках плотно закрыты двери, и почти с каждого окна свешивается маленький красный флаг. Только что мы видели на улицах нарядных детей, женщин с колясками, раскрытые двери магазинчиков, и вдруг такая перемена. Видно, уж очень боятся здесь русских. В душе защемило, а что-то ждет нас?
Дорога идет вниз, мы покидаем Альпы, впереди на большое расстояние раскинулась равнина. Скоро должен появиться и лагерь для репатриированных, в 30 километрах от Вены. Еще немного пути, и мы не верим своим глазам: что это? Огромный участок, огороженный колючей проволокой, вдоль всего заграждения - узкий ров, наполненный водой, за ним высокий тройной забор из колючей проволоки, поверх забора между рядами также намотана колючая проволока, примерно через каждые 50 метров высокая будка с часовыми.
Въезжаем в ворота. Справа - комендатура, слева - одинаковые длинные бараки. В комендатуре нас переписывают и в сопровождении солдата отправляют в барак. Кроме нас, там уже двое. Рассказали нам о лагерном режиме: выходить самим никуда нельзя, в столовую и из столовой водят строем.
Мужа вызвали на допрос. Допрашивали подробно, допытывались, как и при каких обстоятельствах мы попали в оккупацию, что, и как, и где делали, где работали. Вызвали и меня, но я, видно, их не очень интересовала. Все внимание следователей было устремлено на мужчин, и, каждый раз, возвращаясь после очередного допроса, муж говорил, что хорошего ждать нечего. Постепенно от ежеминутной нервотрепки, от непрерывных допросов, я стала просто цепенеть. Но страшное было впереди.
Пришел в барак один из следователей и объявил, что завтра все мужчины призывного возраста отправляются в Ворошиловград, в лагеря, а женщины, дети и старики - домой. Если бы не дети, то я, безусловно, убила бы себя. Ярость и презрение к самой себе переполняли меня. Я попалась на удочку, лишила детей отца! Я прекрасно понимала, что Ворошиловград - это очередной обман, что мы его больше не увидим, так как это не что иное, как арест. Вся семья сидела и плакала. Все были настолько раздавлены горем, что никто даже не упрекнул меня за то, что я была главным зачинщиком возвращения на родину. Я стала уговаривать Васю на побег: «Перережь ножницами проволоку и беги один, когда-нибудь встретимся, беги обратно в английскую зону». Он, конечно, меня не слушал. На меня напало какое-то исступление, и я ощущала себя, как волк, попавший в капкан.
Вдруг утром пришло решение. Я взяла детей за руки и бросилась в комендатуру. На втором этаже было много военных, старших офицеров, и наши майор с полковником из Клагенфурта, приехавшие накануне. Я кинулась к столу, где сидел военный в генеральских погонах, и выпалила: «Ну так что ж? Когда мне говорили, что все советские обещания безопасности репатриированных - обман, то я не верила и считала, что это фашистская пропаганда! А на самом деле оказалось - правда? Дети, садитесь все на пол! Если вы считаете, что за пребывание в оккупации мы должны нести какое-то наказание, то наказывайте нас всех вместе и ссылайте всех вместе! За что вы отнимаете отца от детей? Он не брал оружия в руки, не изменял родине, мы всю войну были вместе! Нас в репатриационном лагере в Шпитале убеждали ехать в Австралию, но нам удалось вырваться, рискуя жизнью своей и детей, все для того, чтобы вернуться домой, на родину. Я, находясь вдали от родины, вырастила детей советскими патриотами. Дети знают и поют советские песни. Что я им скажу? Что отец арестован? За какие преступления? За что детям такая травма? И как они смогут вырасти советскими людьми, вернувшись на родину, если я, будучи обманутой вами, уже не смогу их воспитывать в любви и преданности своей стране? Я никуда отсюда не уйду! Дети, сидите на полу! Ссылайте нас всех вместе!»
На всем протяжении моей взволнованной тирады было очень тихо, клагенфуртские начальники стояли, отвернувшись к окну. «Поймите, - продолжала я, - вы нас не захватили, мы сами к вам пришли добровольно, пробираясь через кордоны, веря в советскую Родину и желая находиться на своей земле». Я говорила и говорила и вдруг почувствовала, что своей искренностью проняла их. Клагенфуртский полковник взял меня за руку: «Успокойтесь. Возвращайтесь спокойно в барак, вас никуда не повезут, не известив заранее. Все будет хорошо».
На следующее утро отправлялись два транспорта. Все мужчины до 60 лет - в «Ворошиловград», одним эшелоном, а старики, женщины и дети - другим, сказали - просто на родину. Мой муж был единственным из всех молодых мужчин, которого отправляли на родину вместе с семьей…
Не буду описывать свою жизнь по приезде, но скажу, что она часто была тяжелее военной. Мы испытывали настоящий голод, униженное положение в обществе, первые годы - фактически нищету. Но семья оказалась на родине, и все плохое и хорошее было нам родным. Стало известно, что все, попавшие в Австралию, вскоре обжились и даже стали богатыми, но их никогда не покидала тоска по своей стране, они уподобились зверям, попавшим в золотую клетку после голодной воли. Много дней я провела в страхе возможного ареста, боясь звука проезжающей ночью около дома машины. Постепенно все уходило в прошлое, хорошее чередовалось с плохим, судьба и впоследствии мне благоволила и дозволила подняться на уровень всеобщей жизни, какая бы она ни была, но своя, а не иностранная.
Привет будущему.