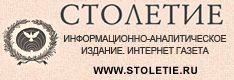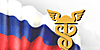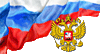Активность Запада в судебно-правовой плоскости с попытками придать украинскому военному конфликту некое международное уголовно-процессуальное измерение, поставив Россию в целом, ее военнослужащих и высших должностных лиц в положение «обвиняемых», неизбежна и предсказуема. Если раньше международное право в его традиционной, а с какого-то момента и уголовно-процессуальной (после Второй мировой войны) форме выходило на авансцену только после окончания собственно военных действий в качестве права победителей определить новый международный порядок, то сегодня оно стремится сопровождать военные действия, а иногда и предшествовать им. Это связано и с превращением классических войн в «гибридные», где наряду с военной существуют также информационная, экономическая и другие составляющие с подчас не менее жесткими и важными «сражениями», одними из разновидностей которых являются «битвы» на юридическом поле, и с неготовностью некоторых западных элит рисковать жизнью на поле боя, заменяя подлинные военные действия более привычными им «кабинетными» баталиями, и со стремлением присвоить морально бесспорное наследие Второй мировой войны с коммуникативной демонизацией противника, который якобы непременно будет предан новому Нюрнбергскому трибуналу, и со многим другим.
Те или иные западные действия в судебно-правовом направлении можно и нужно обсуждать в сугубо техническом ключе, противостоять им, выстраивать собственную аргументацию, предъявлять иски, обжаловать и т. д. В общем в этом и заключается работа юристов, в том числе в сфере международного права. Однако было бы неправильно упускать из виду некоторые стратегические закономерности, без понимания которых любые юридические контрмеры превращаются в хаотичную и чаще всего бесперспективную оборону. Причем речь идет именно о закономерностях, одинаково действующих и для Запада, и для России. Разница лишь в том, что мы можем сегодня говорить о них открыто, не обращая внимание на необходимость прикрывать их идеологическими завесами, чего Запад позволить себе не может. Этим и надо воспользоваться. О каких стратегических закономерностях идет речь? Их как минимум три.
Первая. Политически нейтрального правосудия не бывает, поскольку суд - это одна из государственных властей, реализующих в правовой форме государственную политику, в свою очередь, отражающую власть определенной политической силы, которая создала действующий конституционный порядок. Персоналии в этой власти могут меняться, а могут - нет, создавая более или менее персоналистские, демократические и т. п. режимы, но сама власть остается неизменной, во всяком случае, в рамках данного конституционного порядка, который может быть изменен лишь революционным путем. Отсюда вытекают все ныне популярные феномены «глубинного государства» и т. д., на самом деле легко описываемые традиционным юридико-политическим языком. Следовательно, только в таком контексте надо понимать тезис о независимости правосудия, которая весьма условна и относительна всегда и везде, так как правосудие не может существовать в отрыве от государства, конституционного режима и действующей в его рамках политической власти. При этом искусство права заключается в том, чтобы суд проявлял свою политическую связь с государством не как грубый «молотобоец», а как тонкий художник, создающий эстетически красивые и интеллектуально глубокие конструкции в рамках того политического «коридора», в котором он вынужден находиться. Тем более что отсутствие политически нейтрального правосудия не означает отсутствия политически нейтральных дел, то есть многочисленных рутинных споров, не затрагивающих «основ». Именно способность выстроить «тонкие» правовые и судебные системы отличает успешные правопорядки, некоторые из которых даже стали исторически классическими, от неуспешных.
Вторая. Международная юстиция, в том числе, разумеется, уголовная, является не более политически независимой или нейтральной, чем юстиция национальная. До определенного момента она вообще могла существовать в крайне узких пределах: скажем, Нюрнбергский трибунал был возможен исключительно как суд ad hoc, да и то лишь на волне особой атмосферы, царившей между союзниками в самые первые послевоенные годы. Если бы ситуация затянулась хотя бы на пару лет, то никакого Нюрнберга не было бы, в условиях неизбежной холодной войны он уже был немыслим. Именно поэтому ничего сверхпозитивного не получилось, как известно, из Международного суда ООН, на который когда-то возлагались особые надежды, в том числе с советской стороны, хотя и с пониманием того, что «для успешной деятельности Международного суда нужна благоприятная политическая атмосфера», которая «может быть обеспечена только единством великих держав, разгромивших гитлеровский блок»1. Единство быстро исчезло, а вместе с ним и надежды на независимое международное правосудие, которое могло бы беспристрастно рассматривать дела, связанные с войнами в Корее, Вьетнаме, Афганистане и т. д.
Всплеск развития международного правосудия на самом деле связан с окончанием холодной войны (опять-таки не с началом, а с окончанием), когда стал реализовываться современный глобальный проект, то есть попытка создания глобальной политической власти. Любые наднациональные судебные органы (от Международного уголовного суда (МУС) до ЕСПЧ) формировались или переформатировались именно в качестве инструмента этой власти, то есть в концептуальном плане ничем не отличались от национальных судов, действующих в рамках национальных конституционных порядков.
Где-то создание глобальных судебных инструментов происходило более тонко, где-то менее, но это ничего не меняет. Пока Россия участвовала в этом «глобальном порядке», она в каких-то случаях могла с некоторыми из таких судов взаимодействовать, да и то, как правило, с большим трудом. Вопрос в другом: если Россия воспротивилась установлению «глобального порядка», то может ли она рассчитывать в этих судах на какую-то абстрактную справедливость и беспристрастность? Такие ожидания абсурдны. Это примерно то же самое, как ожидать в свое время от Верховного суда США признания правомерности ввода советских войск в Афганистан или от советского суда оправдательного приговора по делу о какой-нибудь «антисоветской агитации и пропаганде», рассчитывая в обоих случаях на бесспорность каких-то фактов или чисто юридических аргументов. Поэтому все наши сетования по поводу двойных стандартов и правовой односторонности тех или иных решений, будь то Югославия, Ирак, Южная Осетия или Украина, эмоционально понятны, но в рациональном плане смысла не имеют. Такова природа правосудия, в том числе международного, преувеличивать независимость, которой не следует.
Третья. Глобальный проект с соответствующими надгосударственными органами до конца реализован, к счастью, не был. В сугубо юридическом плане ему не хватает принципиального элемента - силовой составляющей, поскольку без полиции юстиция абсолютно беспомощна. Но «мировой полиции» нет, а любые попытки ее построить (НАТО и т. п.) означают использование вооруженных сил, так как принуждать надо не людей, а государства, а это уже не просто исполнение международного судебного решения, а война со всеми вытекающими последствиями, в чем, к слову, вообще заключается институциональная концептуальная слабость «глобального проекта» (безотносительно к его ценностной стороне). Поэтому силовую составляющую должны обеспечивать сами государства, что является, конечно, парадоксом, так как проект, призванный государства ослабить или даже фактически упразднить, вынужден опираться на их институциональные ресурсы, без которых становится ничтожен. Отсюда столь велика роль «мягкой силы», информационного обеспечения, псевдо-ценностной «завесы» и т. д., которые необходимы для того, чтобы втянуть государство в сотрудничество и заставить его выступать тем самым «полицейским», обеспечивающим исполнение принятых против него же самого или его должностных лиц властных наднациональных решений, в том числе в сфере международной уголовной юстиции.
Другими словами, для успеха процесса над С.Милошевичем необходимо было не только создать Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ), но и заставить Белград действовать по его правилам, выдав С.Милошевича Гааге. Без Белграда Гаага с ее судебными институтами эффективной быть не могла или могла только в случае полной военной оккупации всей Югославии, что переводит ситуацию из юридической в сугубо военную плоскость.
Теперь, опираясь на обозначенные стратегические закономерности, необходимо приложить их к нынешней конкретной ситуации противостояния России с Западом как в рамках украинского конфликта, так и за его пределами, поскольку само противостояние одной Украиной, разумеется, не исчерпывается. Иначе говоря, речь идет уже о нескольких тактических выводах, которые с очевидностью следуют из указанных закономерностей. Их, на мой взгляд, также три.
Во-первых, на своей, то есть политически контролируемой, территории Россия, с одной стороны, свободна вершить правосудие и определять его формы исходя из собственных правовых, ценностных, геополитических установок. С другой стороны, она также вправе полностью и безоговорочно суверенно игнорировать «внешнее» правосудие, от кого бы оно ни исходило. Как отмечал выдающийся французский конституционалист Ж.Ведель, суверенитет означает, что «у государства нет ни начальников, ни равных ему по статусу, ни конкурентов»2, то есть оптика государства всегда априори односторонняя.
Что касается форм правосудия, то оно может быть как национальным, так и международным, если мы сочтем необходимым передать часть своего судебного суверенитета каким-то совместным судебным органам с дружественными союзными странами, например для рассмотрения дел о военных преступлениях украинской армии в Донбассе. Для этого достаточно заключения межгосударственного международного договора. Делать это, безусловно, надо, не оставляя монополию на международную юстицию Западу. Но при этом нужно отдавать себе отчет, что на сегодняшний день реальная международная площадка для таких договоров является для нас крайне компактной - рассчитывать на повторение Нюрнбергского трибунала пока трудно даже в рамках СНГ. В целом, невзирая на все футурологические построения, часто сомнительные, физическая территория продолжает оставаться ключевым фактором при определении в том числе пределов судебно-правовых возможностей государства.
Во-вторых, насколько Россия суверенна на контролируемой ею территории, настолько же юридически бессильна на территории «недружественных стран». Можно сколь угодно уважать или ценить западное правосознание, но следует помнить, что в институциональной сфере ничего невозможного нет. Западное общество, конечно, сложно и неоднородно, в нем есть здоровые, в нашем понимании, силы, сочувствующие нам и готовые иногда даже действовать в судебно-правовом поле, используя те или иные национальные или наднациональные механизмы. Такие силы надо, разумеется, всецело поддерживать. Однако любые их действия могут быть в любой момент купированы, если начнут представлять в глазах западных элит реальную политическую опасность, с той же резкостью, с какой были купированы сразу после начала событий на Украине годами набиравшие популярность, например во Франции, информационные каналы («RT France» и др.), стремившиеся быть в своей информационной политике максимально аккуратными. Это их не спасло.
Остается внешний, сугубо аналитический взгляд на события, происходящие на «западной территории», в том числе с точки зрения попыток создать какую-то «международную юстицию» по украинским событиям. Пока возникает впечатление, что поиски «красивых решений» превалируют над юридической «грубой силой», это, видимо, связано с присущей Западу аккуратностью в работе с институтами, которые легко сломать, но трудно выстроить. Однако найти «красивые решения» в сфере некоего международного уголовного процесса не удается, что связано с непреодолимостью невоенными средствами проблемы государственного суверенитета и априорной невозможностью принудительного исполнения подобных решений в отношении России, если она решительно откажется от совместной юридической «игры». По той же самой причине Запад пока не готов к сугубо межгосударственному варианту международной уголовной юстиции, поскольку избрание такой модели политически означает признание бессилия Запада в качестве глобального центра. Его амбиции завышены, в этом плане он в зеркальном положении с Россией не находится.
Отсюда, в-третьих, вытекает, что поиск Западом «красивых» и, главное, более или менее эффективных решений будет лежать в плоскости совместных с Россией международных площадок, на базе которых можно было бы выстроить некое подобие международной уголовной юстиции. Такие площадки, с одной стороны, должны обладать соответствующей судебно-правовой инфраструктурой, иначе легитимными они не выглядят, а с другой - быть в той или иной мере признанными Россией, чтобы хоть как-то втянуть ее в судебно-правовые «тяжбы» на международном поле. Что касается России, то она как раз должна такие площадки не искать, а категорически избегать, поскольку их использование будет означать не некое беспристрастное рассмотрение споров (это маниловщина), а попытки проникновения на контролируемую Россией суверенную правовую, а значит и физическую, территорию.
Иначе говоря, для реализации в отношении России хоть каких-то эффективных механизмов международной уголовной юстиции Западу не обойтись без задействования суверенных институциональных механизмов самой России. Это, конечно, вступает в противоречие с первоначальной идеей «исключать» Россию изо всех международных организацией, однако данная эмоциональная политика, являющаяся инструментом сугубо психологического давления, рано или поздно рискует смениться политикой более умной и юридически просчитанной, которая к тому же может найти в России понимание по сугубо дипломатическим причинам безотносительно к заложенному в ней юридическому «троянскому коню».
Существуют ли такие международные площадки? Найти их непросто, но думается, что именно в их поиске заключается сейчас основная западная аналитическая юридическая работа по украинскому направлению. ОБСЕ смотрится в глазах Запада гипотетически симпатично, вполне им контролируется, но не обладает никакой легитимной судебно-правовой инфраструктурой. ООН такой инфраструктурой, безусловно, обладает, но членство России в Совете Безопасности блокирует любые попытки создания аналога МТБЮ. Остаются Международный уголовный суд и Совет Европы с ЕСПЧ.
Неслучайно, что именно в их рамках мы видим сейчас наибольшую западную судебно-правовую активность. Однако перспективы серьезного задействования механизмов МУС вызывают сомнения. Если бы Россия, подписав Римский статут, всего лишь «уклонялась» от его ратификации, то окно возможностей для Запада здесь имело бы место, как это случилось в пресловутом деле «ЮКОС» с также подписанным, но не ратифицированным Договором к Энергетической хартии, когда все аргументы России по этому поводу были отвергнуты ЮНСИТРАЛ. Но крайне своевременное Распоряжение Президента РФ от 16 ноября 2016 года №361-рп о выходе из Римского статута лишает Запад данного козыря. МУС, конечно, может быть задействован в медийном поле, может даже вести какие-то расследования или разбирательства, но попытки его использования против России есть отнюдь не «красивое решение», а та самая юридическая «грубая сила».
Сложнее обстоят дела с Советом Европы и ЕСПЧ, так как статус России в этих организациях не совсем понятен. С одной стороны, есть заявление МИД о выходе, есть Федеральный закон от 11 июня 2022 года №180-ФЗ. С другой стороны, этот закон прежде всего касается пересмотра в России на основании решений ЕСПЧ рядовых уголовных дел в порядке УПК РФ, то есть весьма узкого, пусть и важного, правового сегмента, хотя решения ЕСПЧ сферой уголовного судопроизводства не ограничиваются.
Есть в законе, конечно, и более широкая формулировка (ч. 1 ст. 2 данного ФЗ). Но ее пределы все-таки непонятны. У нас же нет закона о неисполнении решений, например Африканского суда по правам человека и народов, такой закон не нужен, поскольку Россия априори не является членом данного суда. Но если есть закон о неисполнении решений ЕСПЧ, то, значит, мы продолжаем считать себя членом этого суда, признаем его юрисдикцию, просто не исполняем его решения (что, к слову, в некоторых случаях было возможно и ранее)? В юридическом плане напрашивается именно такой вывод.
Думается, что активизация деятельности ЕСПЧ по Украине, ранее приостановившего прием всех жалоб против России, связана именно с таким толкованием и осознанием российской нерешительности. Требуются более жесткие правовые шаги (по аналогии с МУС), связанные с денонсацией Конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней, в том числе протокола, признающего обязательную юрисдикцию ЕСПЧ. При этом денонсация должна иметь обратную силу (с 15 марта 2022 г.).
Ностальгические ощущения по поводу ухода «эпохи ЕСПЧ» понятны и по-человечески объяснимы, однако продолжать верить в его альтруизм и стремление укреплять права «простого россиянина» вряд ли следует. Думать надо не о ностальгии или уходящих иллюзиях, а о тех рисках, пусть и гипотетических, которые представляет собой неосторожное сохранение международных площадок, способных быть использованными для дополнительного судебно-правового давления на Россию в духе «международной уголовной юстиции».
1Полянский Н.Н. Предисловие // Хадсон М. Международные суды в прошлом и будущем / Пер. с англ. М., 1947. С. 21.
2Vedel G. Manuel élémentaire de droit constitutionnel / Réédition présentée par G.Carcasson, O.Duhamel. Paris, 2002. P. 103.
Читайте другие материалы журнала «Международная жизнь» на нашем канале Яндекс.Дзен.
Подписывайтесь на наш Telegram – канал: https://t.me/interaffairs

 17:18 15.08.2022 • Леонид Головко, Заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, профессор, доктор юридических наук
17:18 15.08.2022 • Леонид Головко, Заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, профессор, доктор юридических наук