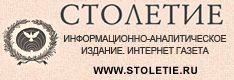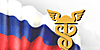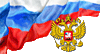АНДРЕЙ ГРОМЫКО служил Отчизне полвека. Наследие его деятельности весьма поучительно. Отмечу следующее. Отец считал, что история стран мирового сообщества, в том числе Советского Союза, самобытна, окрашена в цвета времени господствующих идеологий, зависит от соотношения экономических и военно-политических сил. Он верил в марксизм, изучал его не по учебникам, а первоисточникам. Верил в принцип исторической справедливости, в человека труда, человека-творца — создателя всех материальных и духовных ценностей. Большое значение отец придавал науке и культуре, роли религий и обычаев. Много раз говорил: без знания истории дипломаты в своей деятельности успешными быть не могут. Отец считал дипломатию наукой и искусством, ценил умение переговорщиков находить в лабиринте запутанных проблем компромиссы, решения, которые укрепляли безопасность Советского Союза и его союзников, накапливали для нашей страны большие и малые преимущества.
Западная печать применила по отношению к нему свой любимый прием, окутав его образ застывшими характеристиками. Сначала в ООН его прозвали "господином Голос". Голос у отца был не шелестяще-безразличный и скучный, как у многих дипломатов, а глубокий и размеренный, его было приятно слушать. Говорил он с выражением, порой проникновенно, но на трибуне в ораторский пыл не впадал, не размахивал руками, не распалялся, был спокоен и уверен в себе. Во время его работы в США в местной печати появились статьи о том, что американские женщины находят голос Громыко очень привлекательным. Дипломатический талант отца был замечен за рубежом быстро. В августе 1947 года журнал "Тайм" писал: "Как постоянный представитель Советского Союза в Совете Безопасности Громыко делает свою работу на уровне умопомрачительной компетентности" ("Time", 1947, August 18).
Интерес к отцу быстро рос. Репортеры его буквально преследовали. Поначалу он охотно шел им навстречу, приглашал фотографов на загородную виллу представительства, но вскоре к ним быстро остыл. Работая в библиотеке особняка, арендованного у богатой семьи Миллсов на Лонг-Айленде, около Нью-Йорка, отец однажды ответил отказом об интервью на несколько просьб подряд.
Я удивился. "Почему ты всем отказываешь?" — спросил я. Мне было тогда 15 лет. Отец ограничился коротким: "Я занят". Через несколько минут, как будто размышляя над вопросом, добавил: "Сто раз снимут, на 99 фотографиях я буду улыбаться, а поместят ту, сотую, где не буду. Какой смысл встречаться с репортерами, если у них одна задача — изобразить тебя в превратном свете". Я решил, что отец в плохом настроении. Однако со временем, просматривая газеты и журналы, стал замечать, что в них портрет Андрея Громыко действительно рисуется черной или в лучшем случае серой краской. Вот лишь некоторые из высказываний, встречавшихся тогда в печати: "Андрей-волк", "робот-мизантроп", "человек без лица", "человек без памяти", "современный неандерталец", "человек-йог, пришедший на смену комиссарам". Его образ старались исказить, не брезгуя обманом. Якобы в одном разговоре на вопрос дамы: "Что вы думаете об американских женщинах?" — Громыко ответил: "Они меня не впечатляют". Отец шутил: "Такая информация дается, чтобы, не дай бог, американки в меня не влюблялись". Всеми этими характеристиками он был награжден лишь в одном номере "Тайм". Можно себе представить, сколько их ходило по страницам херстовской прессы. Однако в том же "Тайм" признавалось: "Громыко — это успех".
Я на себе почувствовал, что такое технология по "промывке мозгов", когда увидел в "Тайм" снимок отца, поправляющего мне галстук. Что в этом можно было найти? К тому же фотограф сделал кучу снимков нашей семьи, ссылаясь на просьбу главного редактора журнала. Я выгляжу на снимке довольным. А вот подпись под фотографией: "...видимой гуманности не прослеживается". "И порядочности у журнала "Тайм" тоже", — подумал я про себя с обидой на то, что именно меня избрали объектом манипуляций.
Постепенно прозвища в духе "Андрей-волк" отпали и осталось только "человек Нет". Отец к этой характеристике относился добродушно, как к неизбежной приправе к статьям и речам тех, кто был недоволен его твердостью в отстаивании интересов Советского Союза. Как-то он сказал: "Мои "нет" они слышали гораздо реже, чем я их "ноу", ведь мы выдвигали гораздо больше предложений".
Пока отец не перешел на работу в МИД СССР и мы не уехали в США, жизнь у родителей была тяжелая. Белоруссия так не голодала, как Украина, но достатка не было. Когда мне было три года, родители отправили меня в деревню к родственникам. Мои первые воспоминания детства связаны с тем временем. Я с раннего детства невзлюбил сливочное масло. Когда мне давали хлеб с маслом, я умудрялся выносить его на огород и прятал среди листьев картошки, свеклы и кочанов капусты. Огород казался мне лесом, где мои проказы не будут замечены.
Вышло наоборот. В день приезда отца и матери мое "преступление" было раскрыто. Я получил хорошую взбучку. Отец строгим голосом сказал: "Масло есть надо. У нас с мамой хватает денег на один его стакан в месяц, а ты выбрасываешь". Но я все-таки не понимал, почему меня наказывают, все равно масло мне определенно не нравилось и есть я его не собирался. "Один стакан масла в месяц" - так жили отец с матерью в студенческие годы.
Потом отца перевели из Минска в аспирантуру в Москву. Семья наша жила в Алексеевском студгородке, что за теперешней гостиницей "Космос", напротив ВДНХ. Нашей "квартирой" была комната в бараке, в котором ютилось несколько семей. Жили бедно, но дружно, ходили друг к другу в гости. Вспоминается, как все вместе справляли Новый год. Небольшая душистая елка стояла посередине комнаты, сверкая разноцветными лампочками и золотистым светом свечей. Этот волшебный вечер запомнился тремя событиями: вкусным угощением с мороженым и шоколадом, таинственно искрящимися бенгальскими огнями и импровизированным детским концертом.
Из детства запомнилось, как внимательно мать и отец ухаживали за мной. Однажды я заболел малярией. В то время, в конце 1930-х, она еще водилась в Подмосковье.
Болел тяжело, аппетит полностью пропал. Когда отец приходил с работы, мать ему жаловалась: "Толя опять ничего не ест". Тогда он придумывал самые разные игры, чтобы накормить меня. Например, держит в руках тарелку с манной кашей и говорит: "Представь себе, что каша - это французы, а ты Кутузов, кто победит?" Я отходил в другой конец комнаты, бегом устремлялся к "французам" и в несколько приемов кашу съедал. "Полная победа, наша взяла", - подводил итог сражению отец.
Из моей жизни с родителями в Вашингтоне (1939-1946 гг.) вспоминается такой случай. Однажды я бежал к автобусной остановке. Неожиданно за мной припустилась стая собак. Я был уже готов вскочить на подножку автобуса, как один из псов, большой и рыжий, с лихо закрученным вверх хвостом, укусил меня за лодыжку. На следующий день мать обнаружила, что мои брюки порваны, пришлось родителям все рассказать. Они переполошились: "А вдруг собака бешеная?" Отец нахмурился: "Пойдем, Толя, срочно искать эту собаку". Мы исходили всю округу, но нигде "рыжего" не обнаружили. Отец пригласил на дом американских врачей. Они сказали, что в Вашингтоне уже много лет не было случаев бешенства, но родители должны сами решать, делать ли уколы. Отец и мать колебались. Уж очень мне не хотелось проходить через эту крайне неприятную процедуру, и я "сообразил": "Не могла бешеная собака бегать в стае". Эта наивная детская догадка повлияла на родителей, и лечение не назначили.
Любил отец надо мной и подшутить. Когда в связи с его назначением в ООН мы переехали из Вашингтона в Нью-Йорк, он взял меня в ресторан. Мне только что исполнилось 14 лет, и этот поход запомнился. Мы обедали в роскошной по тем временам гостинице "Плаза", что рядом с Центральным парком. "Мясо есть будешь?" — спросил он. Я согласился. Подают блюдо вроде бы из куриных ножек, с которым я быстро справился. "Что, вкусно?" — спрашивает, посмеиваясь, отец. "Да, очень", — ничего не подозревая ответил я. "А ты знаешь, это были... лягушачьи лапки, — рассмеялся отец. — Дома будешь рассказывать, никто не поверит". Так, в первый и последний раз в жизни я приобщился к изысканному блюду французской кухни.
Хорошую шутку отец любил, был наделен чувством юмора. Понравившиеся анекдоты рассказывал сам. Например, такой: "Скажите, что было до сотворения мира?" Когда все сдавались, со смехом отвечал: "Госплан". С удовольствием играл с детьми, шутливо вставал с ними в боксерскую стойку или предлагал пойти поохотиться на тигра, советуя: "Ты схвати его за хвост, раскрути и-и-и как брось!" — при этом жестами показывая, как это надо делать.
Интересные у нас с отцом возникали разговоры на крымской даче в Мухалатке, куда со второй половины 1970-х годов родители ездили каждое лето на отдых. Однажды мы гуляли по набережной вдоль моря. Был вечер, над нами светились яркие южные звезды, стрекотали цикады. После жаркого дня с моря тянуло прохладой, дышалось легко. Издали доносились звуки музыки. Я прислушался, и мне показалось, что поет Фрэнк Синатра. Его голос пробудил у меня воспоминания об Америке, где прошла моя юность.
"— Тебе нравится Синатра? — спросил я отца.
— Да, задушевный и мелодичный певец. Помню, как во время войны и сразу после нее восходила его звезда. Он выступал в кинотеатрах, начал сниматься в кино. У него удивительно приятный голос, певец-романтик.
— А из наших песен что тебе нравится? — поинтересовался я.
— Люблю песни Клавдии Шульженко и вообще песни военных лет. Тогда появилось множество музыкальных шедевров. Например, песня из кинофильма "Два бойца" в исполнении М.Бернеса. Это была не песня, а целая философская поэма."
Я решил вернуться к началу нашего разговора.
"— А какое кино тебе нравится?
— "Унесенные ветром", в нем английская актриса Вивьен Ли бесподобна. А как хорош с ней "Мост Ватерлоо". Еще я люблю Чарли Чаплина. А из наших актеров — Любовь Орлову, Николая Черкасова, Бориса Ливанова. Удивительное это искусство — кино. Однажды ко мне в посольство пришел американский актер Эдвард Робинсон. Он прекрасно сыграл в американском фильме "Морской волк". Я увидел перед собой небольшого роста приятного человека, а в фильме это бывалый капитан, человек несокрушимой воли, большой физической силы. Или возьми Черкасова. Когда мы с ним встречались, я ловил себя на мысли, что это Александр Невский, а Бориса Ливанова воспринимал не иначе как Дубровского или Ломоносова."
Кстати, Ливанов с супругой Евгенией Казимировной часто бывали у нас в гостях. О чем бы они с родителями ни беседовали, Ливанов после двух-трех рюмок водки в очередной раз обращался к отцу с неизменным вопросом:
"— Андрей Андреевич, когда у нас появится наконец академия театрального искусства?
— Это не по моей части, — отвечал отец. — Сам театр — это и есть лучшая академия.
— Андрей Андреевич, нужна настоящая театральная академия. Почему у художников она есть, а у нас, актеров, нет? Это несправедливо."
Любил отец и живопись. Ему нравились полотна Павла Корина, братьев Клодт, Айвазовского, Семирадского, Кончаловского, Ильи Глазунова. С последним встречался много раз, беседовал об искусстве и русской истории. Илья Сергеевич хвалил русских царей, особенно Павла I и Александра II, ругал абстракционистов и Пикассо.
"— Это что же за искусство,— говорил Илья. — Как если бы красивую вазу высоко подняли, бросили на пол, она разлетелась вдребезги, а нам показывают обломки и говорят, что ими надо восхищаться."
Отец ценил этого художника не только за мастерство, но и за патриотизм.
"— У Ильи Глазунова, — говорил он, — на картинах настоящая русская история."
Отец любил книги по истории, часто перечитывал Николая Карамзина, Сергея Соловьева, Василия Ключевского. Из русской истории часто обсуждал с нами деятельность Бориса Годунова и таинственную смерть царевича Дмитрия. Годунову симпатизировал как худородному дворянину и умному правителю. В версию о том, что он стоял за смертью Дмитрия, не верил. "Годунова оболгала родня Дмитрия — Нагие, — говорил он. — Василий Шуйский говорил разное, и церковь постаралась, объявила Дмитрия святым, а святые не могут быть самоубийцами даже по неосторожности. Царевич же, скорее всего, умер от раны в горло, нанесенной самому себе ножом в припадке эпилепсии. Царь Федор расправился с Нагими, думал, что они используют смерть царевича против него. Позже Пушкин под влиянием Карамзина воспринял версию о детоубийце".
Читал отец много. Собрал большую библиотеку. В его руках можно было увидеть книги Куприна, Тютчева, Лескова, Бунина и Вересаева. Из американских писателей и поэтов любил Уолта Уитмена, Теодора Драйзера, Джека Лондона, из французских — Рабле, Даниэля Дэфо, и особенно Оноре де Бальзака. "Будешь в Париже, обязательно посети музей Бальзака, дом, где он жил и работал. "Человеческая комедия" — это монумент французской культуры", — говорил он мне. Любил Шиллера и считал гением Гете. "Фауст" стал его настольной книгой. Особенно часто он обращался к этому произведению во время отдыха в Крыму, подчеркивал синим карандашом полюбившиеся места. Любимыми произведениями русских писателей у отца были "Война и мир" Льва Толстого, "Князь Серебряный" Алексея Константиновича Толстого, "Тихий Дон" Михаила Шолохова. Недоразумением считал версию о том, что Шолохов не был автором некоторых частей книги. Говорил, что человек не может считать себя образованным, если не прочтет "Цусиму" Новикова-Прибоя. Были у него и свои антипатии. Не воспринимал он Федора Достоевского и Владимира Маяковского. "Стыдно признаться, — говорил он, — но мне их язык решительно не нравится. Таким языком не говорят. То ли дело "Капитанская дочка" Пушкина. Это великий шедевр русской литературы".
Отец не был суеверным, во всякую чертовщину не верил, воспринимал мир как материалист. Но при этом был напичкан разными историями, любил вечером за семейным столом их рассказывать. Вот одна из них:
"В белорусских деревнях была высокая нравственность. Люди берегли свою честь смолоду. Людская молва могла вознести, а могла и погубить человека. Младшие чтили старших, не спорили с ними, а старшие опекали младших, учили их уму разуму. Так и одной девушке мать с отцом строго-настрого наказали: "Возвращайся домой с гулянья в соседней деревне засветло". Весело было ей на празднике, смеялась она и танцевала. Но вот стало темнеть, а как хочется подольше повеселиться с подругами, ах как хочется! Когда наконец плясунья отправилась обратно, опускалась ночь. Испугалась девушка, что нарушила данное обещание, и припустилась что есть силы домой. Но темнело еще быстрее. Решила она сократить путь и побежала к своей деревне прямиком через кладбище. Становилось совсем темно. Страшно стало хохотунье, казалось ей, что из могил к ней кто-то тянется.
Смотрит - впереди прохожий. Подбежала, увидела мужчину, бледен он был и худ. Молча пошли рядом. Наконец девушка набралась смелости и спросила: "А вам не страшно?" Прохожий медленно повернул голову и изрек: "Страшно было, покуда жив был". Так быстро, как в этот вечер, наша плясунья в жизни больше не бегала. Вот такие истории случались в нашей деревне".
Отец много летал самолетами, но всегда просил меня ездить только поездом. Загораешь на пляже в Сочи, а тут по селектору вызывают тебя к директору санатория. Идешь, волнуешься, как бы чего не случилось. Директор говорит: "Вас просит позвонить Андрей Андреевич".
Звоню по правительственной связи, слышу голос отца и получаю указание: "Я тебя очень прошу, возвращайся в Москву поездом. Это моя личная просьба, обещай". Так же отец оберегал от самолетов и Эмилию. Вот письмо, написанное им маме, которую он называл "Лида" или ласково "Лидунчик", в июне 1958 года:
"Здравствуй, Лидунчик!
Прибыли в Нью-Йорк благополучно и приступили к обычной работе. По-видимому, сессия Ассамблеи скоро закончится — примерно через неделю. Здесь стоит очень жаркая и влажная погода, но пока у меня нет никаких признаков "хай фивер" (воспаление дыхательных путей от пыльцы цветов. — Ан. Г.), так как все живем в городе и здесь в этом отношении, как известно, лучше, чем на даче".
Самым любимым и уважаемым человеком для отца была его мать, Ольга Евгеньевна Громыко. Он рассказывал, что в деревне ее звали "тетя Оля - профессор".
"Толя, — говорил отец, — до сих пор я слышу тихий голос матери, словно какая-то невидимая нить связывает нас: "Сынок, если люди друг к другу идут не со злом за пазухой, а с открытым сердцем, если слушают не только себя, а слышат других, если живут не только настоящим, а помнят о прошлом, то будут они счастливы. Если не так, то придет к ним большое горе. Людей должна связывать любовь, а не зависть". "Ты давно был на могиле бабушки?" — спрашивал отец. Про себя я думал, что традиции почитания умерших на Руси были куда крепче, чем сейчас. В моду вошло пренебрежительно хулить усопших, которым раньше курили фимиам.
"Я поставил матери памятник, — продолжал он, — как она пожелала, из черного мрамора, с крестом. Умирала она тяжело, от рака, лекарств для облегчения ее страданий даже в кремлевской больнице не было. Я часто навещал ее, мы вспоминали Гомельщину, отца, его поездку на заработки в Америку. Он повредил там руку и вернулся домой ни с чем. Мать мечтала о встрече на том свете с убитыми на войне сыновьями Алексеем и Федором, крестила меня и приговаривала: "Бог спас тебя, Андрей, от смерти. Когда я вижу всех вас, сердце мое успокаивается".
Оглядываясь сейчас назад, я могу с уверенностью сказать, что отец в глубине души с большим уважением относился к православию, считал, что научный социализм и идеалы христианской веры во многом совпадают. Возможно, это ассоциировалось у него с образом матери, ее взглядами на жизнь. Отец никогда не внушал мне антирелигиозных мыслей. Не помню сейчас в какой связи, но однажды мы с ним вспоминали о восстаниях Разина и Пугачева, и отец сказал, что именно в лесах юго-восточной Белоруссии скрывались пугачевцы, пользуясь поддержкой местного населения.
В речах и выступлениях отца никогда не было подобострастного, нарочитого восхваления ни Хрущева, ни Брежнева, ни других последующих генсеков. Его здравицы в их честь, которые он произносил на съездах и официальных приемах, были весьма сдержанны. Ни разу в нашем доме, когда собирались гости, отец не произносил тостов в честь партийных лидеров. Не любил и когда расточали похвалу ему самому. На своем 60-летии, которое отмечалось на нашей даче во Внуково, гости были немало удивлены, в особенности тамада — его первый заместитель Василий Кузнецов, когда отец, опередив всех, встал и сказал: "Предлагаю тост за то, чтобы в честь юбиляра не было тостов". Тосты, конечно, были, но, думаю, их число и продолжительность резко сократились.
Не менее были удивлены гости, когда обнаружили, что на столе нет водки — только вино. Отец не пил крепких спиртных напитков и не курил, мог, правда, иногда пригубить сухое вино или шампанское. Только однажды на фотографии я увидел его с папироской в руке. Это было в Вашингтоне, во времена конференции по выработке Устава ООН. Но, по-моему, это было сделано для видимости.
Были ли у него друзья, если не считать родных? Боюсь, что нет. Судьба политика и дипломата, члена Политбюро исключала тесную дружбу. Из советских партийных и государственных политиков он ценил маршала Жукова, Брежнева и как дипломата — Молотова. По его ходатайству Вячеслава Молотова восстановили в КПСС, а Кагановичу в этой просьбе отец отказал. Ровными были отношения министра со своими подчиненными. Наиболее близкими к нему в личном плане были замминистра Владимир Семенов и посол в США Анатолий Добрынин: "Очень хороший работник Добрынин". Высокого мнения отец был о замминистра Георгии Корниенко. Тепло отзывался о замах Игоре Земскове и Анатолии Ковалеве, огорчился, когда последний при Шеварднадзе стал принижать результаты работы прежнего министра и усердствовал в возвеличивании нового шефа. "Я о Ковалеве был лучшего мнения", — сказал он мне как-то. Тепло говорил о ветеранах дипломатической службы Иване Тугаринове и академике Сергее Тихвинском, о крупных советских дипломатах Юлии Воронцове, Петре Абрасимове, Александре Бессмертных, Валентине Фалине, Юлии Квицинском, Михаиле Капице, Алексее Шведове, Леониде Замятине, Александре Солдатове.
Из иностранных политиков и дипломатов отец выделял госсекретарей США Генри Киссинджера и Сайруса Вэнса, министров иностранных дел ФРГ Вальтера Шееля и Вилли Брандта, итальянских премьер-министров Альфредо Моро и Аминторе Фанфани, британских премьеров Гарольда Вильсона и Гарольда Макмиллана. В последние годы жизни он признал внешнеполитические достижения Ричарда Никсона и Франсуа Миттерана. Отец любил рассказывать о встречах с ними, вспоминал о смешных ситуациях. Например, когда Генри Киссинджер приезжал в Москву, то постоянно боялся подслушивания со стороны КГБ. Однажды во время встречи он указал на люстру, висевшую в комнате, и попросил, чтобы КГБ сделал ему копии американских документов, так как у американской делегации "вышла из строя" множительная техника. Отец в тон ему ответил шуткой, сказав, что люстры делались еще при царях и в них могут быть только микрофоны.
В повседневной жизни отец был скромен. Он предпочитал темные и серые костюмы, американские рубашки фирмы "Эрроу", любил синие галстуки, зимой носил серые каракулевые шапки, в мороз надевал теплую парку. Весной переходил на фетровые шляпы и на отдыхе на соломенные итальянской фирмы "Барсалино". Костюмы и пальто, как правило, шил из английской ткани.
К вещам привыкал, и, случалось, вся семья упрашивала его сшить себе новый костюм. В еде был сдержан и предпочитал небольшие порции. Очень любил хорошо заваренный чай с вареньем и сушками. Именно за чаепитием в семье часто возникали интересные беседы.
Помимо пеших прогулок отец любил плавание. Правда, заниматься этим ему удавалось только во время отдыха в Крыму. В Москве он никогда не посещал правительственный спортивный центр на Воробьевых горах. Прежним государственным руководителям в отличие от нынешних и в голову не приходило создавать для себя и своих друзей закрытые спортклубы. В Крыму, в Мухалатке, отец плавал каждый день по нескольку раз. После каждого заплыва он шел в беседку на пляже и своим любимым синим карандашом ставил галочку в специальной тетради. Когда отдых подходил к концу, подсчитывал общее число заплывов и объявлял результат.
На отдыхе каждое утро, спустившись на пляж, делал легкую зарядку с гантелями и шутливо показывал свои мышцы детям. В теннис отец не играл, но иногда приходил на корт и наблюдал за игрой родных. Однажды сам взял ракетку, предупредив, что у него сильный удар, размахнулся, ударил, и теннисный мяч улетел далеко за пределы корта в сторону моря.
Страстью Андрея Андреевича в течение многих лет была охота. Он начал охотиться при Хрущеве, но по-настоящему пристрастился к этому занятию при Брежневе. Меня на охоту с собой приглашал регулярно, и я, как правило, не отказывался, пока не случилось следующее.
Однажды мы охотились под Серпуховом. Я стоял в цепочке охотников и неожиданно именно на меня вышло стадо лосей. Я выстрелил из гладкоствольного ружья с расстояния примерно в 50 метров, и, к моему удивлению, лось, в которого я целился, рухнул. Остальные бросились бежать в мою сторону, я еле успел спрятаться за стоящее рядом дерево. Мы подошли к сваленному лосю, и я был потрясен. Он плакал, из его больших черных глаз катились крупные слезы. Егеря стали поздравлять меня с удачей, а у меня на душе стало тоскливо. Видимо, мои чувства отразились на лице. Отец о чем-то пошептался с егерями, и они в один голос заявили, что "зверя нынче столько развелось, что охота полезна, иначе лось погубит молодую поросль".
Отец сам положил конец моим колебаниям по части охоты. Как-то раз поехали мы с ним в Завидово на уток. Встали на заре, часа в четыре утра, в пять я уже сидел в камышах в плавающей бочке. Убаюканный тишиной, я заснул, прислонившись к ружью. Проснулся от страшного грохота: во сне умудрился нажать на спусковой крючок, и ружье выстрелило у правого уха. Даже испугаться не успел, только подумал: "Так погибают от несчастных случаев". Охота продолжалась, и я подбил несколько уток. Я не рассказывал отцу о происшедшем, но он словно чувствовал.
— Ты почему стрелял, когда уток не было? — спросил он строго. Пришлось рассказать.
— Не умеешь обращаться с оружием, растяпа, — в сердцах сказал отец и больше на охоту меня не брал.
Я всегда удивлялся скрупулезной точности и аккуратности отца, его чувству ответственности. Они проявлялись во всем. Я ни разу в жизни не видел его небритым.
В людях его раздражала расхлябанность. Его пунктуальность походила на немецкую. На отдыхе в Барвихе отец поскользнулся, упал и сломал правую руку. Встал вопрос, как ему подписывать документы, срочно сделали печатку с аналогом подписи. Следующие три месяца его постоянно можно было видеть с теннисным мячом в руке, которую он активно разрабатывал, чтобы скорее восстановить способность без труда писать.
Когда отец отошел от активной деятельности и вышел на пенсию, он прикрепил в спальне листок с распорядком дня:
8.00 - подъем
8.30 - завтрак
9.00 - прогулка
12.00 - работа
14.00 - обед
15.00 - работа
19.00 - ужин
20.00 - работа
24.00 - отбой
За два дня до того, как отца свалила болезнь, я приехал к нему на дачу. Мы пошли прогуляться. Он был в приподнятом настроении:
- Я закончил работу над вторым изданием мемуаров. Осталась мелочь.
Я собираюсь домой в Москву, вхожу в столовую, в проеме наружной двери вижу на ярко освещенной солнцем террасе отца. Он устроился в тени, в качалке, смотрит на милый его сердцу подмосковный лес. Через месяц ему исполнится 80 лет. Если бы я знал, что в добром здравии вижу отца в последний раз... Жизнь человека летит как стрела. У Андрея Громыко она была на излете.
Я горько переживал смерть отца. Вспоминается, как однажды, незадолго до смерти, он обнял меня и сказал: "Толя, помни, никогда нельзя унывать. Видишь, даже в мои года я не чувствую себя стариком. Физически люди умирают, а духовно — никогда. Надо верить".
Таким Андрей Андреевич Громыко остался в моей памяти — внимательный и строгий отец, преданный идее политик и выдающийся дипломат, решавший международные вопросы мирового масштаба во благо Отчизны.