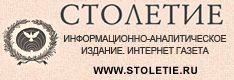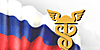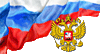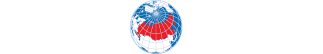Перспектива общественного развития стран, объединяемых постсоветским пространством, остается одной из наиболее обсуждаемых проблем мирового экспертного и научного сообщества.
После предположения С.Хантингтона о глобальном характере демократического транзита дискурс его освоения целиком сместился в плоскость стратегии, направленной на воспроизводство в посткоммунистических странах либерально-демократического порядка, «проверенного западным опытом».
Оптимальность такого выбора продвижения вперед постсоветских республик, помимо рациональности использования «оправдавших себя» институтов, обосновывалась универсальностью и абсолютностью демократических форм, рожденных Западом. При этом соблазн простого пути следования уже проторенной дорогой «удобно» совпадал с поиском постсоветскими режимами опоры на центры мировой силы, компенсирующей материальную недосуверенизацию. Кроме того, отсылка внимания общественности новых независимых государств, в полной мере ощутившей «блага» обрушения единого народнохозяйственного и социального организма, к исторической протяженности достижения уровня демократического развития западного мира служила хотя и ненадежным, но все же аргументом, объясняющим «временные» трудности. На саммитах с западными политиками обязательным элементом риторики лидеров постсоветских стран являлись заверения в верности курсу на достижение «либеральной демократии как конечной формы человеческого правления»1.
Попытка укоренения западного социального опыта на культурной почве постсоветского пространства завела демократический транзит в тупик. Различного рода социологические замеры утверждают, что более 80% россиян являются носителями так называемой «подданнической культуры» (по Габриэлю Алмонду и Сиднею Вербе), а трансформация в «гражданскую культуру», необходимую для построения демократического общества, произойдет не раньше чем через три поколения. Такие же замеры в других странах ближнего зарубежья (исключая страны Прибалтики) демонстрируют приблизительно аналогичные результаты.
Вместе с тем ориентация исследовательского внимания на поиске приемлемых вариантов постсоветской режимной трансформации актуализировала импульс дальнейшего осмысления феномена и практики демократии как ее целеполагания. Рефлексия современного социального процесса, обусловленная этим импульсом, дала основание двум важнейшим выводам, которые в самом общем виде могут быть сформулированы следующим образом: демократия является процессом, но не статичным состоянием общества, развивающимся в контексте динамики всего социального организма.
Попытка абсолютизации даже самого совершенного механизма ее реализации контрпродуктивна и неизбежно вступает в противоречие с цивилизационным мейнстримом.
Отмечая подвижное состояние демократии, обусловленное развитием незападных социумов, и нерелевантность абсолютизации ее западной модели, Брюс Макконнелл пишет: «И все же я предчувствую появление новой формы демократии, если ее можно так назвать, в частности в Китае. Это не западная представительная парламентская демократия, основанная на ценностях эпохи Просвещения, прославляющая индивидуализм и принцип «один человек - один голос». Но это и не диктатура пролетариата»2.
И другой вывод: зазор между первоприродным содержанием демократии как народовластия и современными представительными формами ее воплощения расширяется по мере обретения социумами нового уровня сложности. Общеизвестны редукционистские концепции демократии, призванные сгладить остроту проблемы, связанную с его расширением за счет ограничения содержания демократий до транспарентной процедуры выборов либо участия в принятии политических решений элитарного меньшинства.
Тем не менее отличие народовластия или, выражаясь словами Д.Хелда, «правления народа» и реализации транспарентной выборной процедуры рельефно проявляется в практике постсоветского «демократического транзита». Так, падение электоральной активности в Грузии, Молдавии, на Украине происходит прямо пропорционально уровню положительных оценок западными институтами открытости их избирательных кампаний.
Малопригодным «инструментом» постсоветской режимной трансформации оказался традиционный для западной политологии механизм консенсуса, или соглашения элит, которые, по утверждению отечественного институционалиста Г.В.Голосова, в капиталистическом обществе часто называют национальной буржуазией. В западной модели либеральной демократии, где «открытые, честные и конкурентные» выборы предполагают передачу власти одной элитной корпорацией другой, переход власти через соглашение элит является вполне работающей демократической практикой, хотя и не имеющей никакого отношения к «гражданскому участию».
С точки зрения демократических ценностей, разделяемых гражданами постсоветских государств, консенсус элит не имеет никакого смысла, так как их стратегии ориентированы в направления, не совпадающие с интересами общества.
Неэффективность управления государством правящей элитой воспроизводится «при различных правителях» (Украина, Киргизия), а попытки изменить ситуацию «наталкиваются на сильное сопротивление», так как ее целеполаганием является участие в распоряжении рентой в обмен на лояльность властному центру, а не решение управленческих задач.
Значительная часть исследователей постсоветской политической реальности отмечают, что элитные сообщества новых независимых государств не являются носителями либеральной идеологии, а лишь воспроизводят «квазилиберализм», заключающийся «в свободе его носителей не подчиняться желаниям и настроениям большинства»3.
Безусловно, элитарный характер демократии, о котором говорит значительная часть политологов (выражаясь терминами забытой учебной дисциплины научного коммунизма), антиномичен архитектуре общественного устройства, воспроизводящего социальное равенство и уже тем более открывающего возможность широким массам участвовать в принятии политических решений.
Таким образом, логика когнитивного поиска механизма демократической режимной трансформации постсоветских республик требует не тривиальной адаптации «шаблонов и лекал», извлеченных из теоретического и практического наследия Запада, но обращения к факторам и условиям, способным инициировать качественные изменения политического порядка, обеспечивающего его «дрейф» из «сумеречной зоны» в сторону «гражданского участия». В этом отношении бесконечные упражнения в «исчерпывающем» определении содержания актуальных постсоветских режимов малопродуктивны и не несут конструктивного смысла. Тем более что «образец», с которым обычно сравнивается их нынешнее «несовершенное» устройство, все больше утрачивает общественную привлекательность населения посткоммунистических стран.
Неприятие электоральной конкуренции западного образца, обеспечивающей доступ к участию в политических решениях гражданам и корпорациям, наделенным финансовым эквивалентом социальной силы, подтверждает то обстоятельство, что лишь 13% россиян высказываются за демократическую модель западного устройства общества (в два раза меньше, чем 20 лет назад).
Очевидная нерелевантность воспроизводства постсоветской режимной трансформации по западному образцу вызвала к жизни множество проектов общественного развития, включающих консервативные коннотации или прямо указывающих на консервативный выбор, и даже побудила представителей власти новых независимых государств к публичным заявлениям на этот счет.
Например, лидер Казахстана Н.Назарбаев высказался о неприемлемости для Казахстана «глобального модернизационного проекта» и предложил собственное видение «адаптированной модернизации», основанной на национально-культурных особенностях.
Признавая в целом верность смены парадигмы научного и практического осмысления модели режимной трансформации посткоммунистических стран, тем не менее, как и в хрестоматийных дискуссиях западников и славянофилов, народников и марксистов, для определения адекватности актуальных направлений выбора следует отделить консервативные проекты, призванные утвердить незыблемость ценностей архаики или аксиологические установки нормативного характера, проистекающие из религиозной традиции, от модернизационной стратегии, фундируемой рациональным выбором, обусловленным культурной реальностью, складывающейся на протяжении многовековой общей истории стран постсоветского пространства.
В этой связи, помимо видения режимной трансформации, напрямую отрицающей конструктивный потенциал консервативной модернизации, представляются малопродуктивными и концепции, делающие упор на духовные смыслы и религиозные традиции, которые, в частности, подразумевают под консерватизмом идеологию, отстаивающую «идею гармоничного развития общества на основе базовых ценностных ориентаций, его совершенствования на основе духовных смыслов, сложившихся в ходе истории»4. Логическим итогом рассуждений авторов, разделяющих такую точку зрения, стало тупиковое положение о стратегии развития, ориентированной на «самоинтерпретацию и самоистолкование, способное к самопреобразованию», ведущую к контрпродуктивному крену в сторону автономии от цивилизационного мейнстрима.
Значительно большим когнитивным потенциалом располагают точки зрения, методологическую основу которых составляет теоретическая концепция либерального консерватизма, начавшая разрабатываться еще в трудах К.Д.Кавелина, Б.Н.Чичерина, П.Б.Струве, А.Л.Погодина. Либеральный консерватизм в их понимании преодолевал радикализм «прогрессистов» и застой «официальной реакционности», противостоял противогосударственному «отщепенству».
По мнению Б.Н.Чичерина, «сущность охранительного либерализма состоит в примирении начала свободы с началом власти и закона. В политической жизни лозунг его - либеральные меры и сильная власть; либеральные меры, предоставляющие обществу самостоятельную деятельность, обеспечивающие права и личность граждан, охраняющие свободу мысли и свободу совести, дающие возможность высказываться всем законным желаниям; сильная власть - блюстительница государственного единства, связующая и сдерживающая общество, охраняющая порядок, строго надзирающая за исполнением закона, пресекающая всякое его нарушение, внушающая гражданам уверенность, что во главе государства есть твердая рука, на которую можно надеяться, и разумная сила, которая сумеет отстоять общественные интересы против напора анархических стихий и против воплей реакционных партий»5.
Верно отразив традиционную доминанту общественного порядка, обеспечиваемого сильной властной вертикалью, сторонники консервативного либерализма, в том числе его современные последователи, рассматривают централизованную власть незыблемым и поэтому способным обеспечить стабильность в краткосрочной перспективе «институтом»6.
Оправданная для имперской реальности незыблемость самодержавия в современном прочтении выглядит альтернативой демократическому развитию. Именно поэтому сторонники либерально-демократической модели режимной трансформации сопровождают критику консервативной позиции утверждением о принадлежности демократии исключительно западному культурному опыту и ее либеральной институционализации в транспарентных выборах, сменяемости власти и легально действующей оппозиции. При этом совершенно упускают из виду то, что демократия - как явление мирового цивилизационного процесса - и либеральная демократия Запада соотносятся как общее с особенным. Вряд ли справедливо отождествлять демократию исключительно с эпохой модерна. Мало кто решится утверждать, что вечевой строй республик Древней Руси или общинное устройство, существовавшее в нашей стране вплоть до конца 20-х годов прошлого столетия, не представляли собой пример демократического порядка и что транспарентные выборы или передача власти от одной элитной корпорации к другой демонстрируют более высокий уровень народовластия.
Конструктивный потенциал консервативного либерализма, заложенный сторонниками этого теоретического концепта, нуждается в некоторой адаптации к актуальным трендам политической реальности. Прежде всего следует иметь в виду возрастающую динамику одного из его основных элементов - централизованной власти, которая активно эволюционирует в условиях ускорения социальной мобильности.
В контексте теории модернизации новелла, связанная с эволюцией власти, определяется положением, согласно которому традиция не является альтернативой модерна, но составляет конструктивный потенциал развития, и в этом смысле утверждение о том, что «истинный либерализм неотделим от консерватизма»7, выглядит вполне справедливо.
Важным с точки зрения содержания постсоветской режимной трансформации является положение, согласно которому «обеим идеологиям [либерализму и консерватизму] присущи как универсалистские, так и релятивистские установки; более того, что сами ценности [права человека, равноправие, справедливость, свобода и др.], защищаемые консерваторами и либералами, имеют тождественную природу»8. Исходя из этого посыла, консервативная модернизация не должна рассматриваться как альтернатива либерализации постсоветского политического порядка.
Объективная необходимость активной роли традиционного института централизованной власти в посткоммунистической режимной трансформации обусловлена предпосылками, вытекающими из общего историко-культурного контекста стран и народов, интегрированных в постсоветское пространство.
Становление государственности этого региона, во-первых, не обусловливалось потребностями общественного развития и, во-вторых, - в силу конкретных обстоятельств - определяло ее избыточную централизацию и деспотичный характер. Занимая доминирующее, если не сказать тотальное, положение в социуме, власть выстраивала редистрибутивный порядок, при котором наделение благами (в том числе политико-правового характера) целиком находилось в руках государства. Основным следствием всепоглощающего режима абсолютизма стало не столько формирование, по утверждению западных политологов, остающейся реальностью ментальности подданичества, но, что особенно важно, депривация института частной собственности и замещение его обязательного атрибута - закона и права.
Правовой порядок, являющийся неотъемлемым условием гарантии свободы личности, о котором как о культурном достоянии Запада говорят его апологеты, на самом деле стал результатом абсолютизации частной собственности. По словам одного из основоположников австрийской школы экономики Людвига фон Мизеса, «натуральная собственность не нуждается в признании других. Ее терпят фактически только до тех пор, пока нет силы, которая разрушит ее, и она не способна пережить момент, когда более сильный человек решит взять все себе. Созданная произвольной силой, она обречена всегда страшиться более могущественной силы. Именно такое положение дел доктрина естественного права назвала войной против всех. Война прекращается, когда существующие отношения получают признание как нечто стоящее сохранения. Из насилия возникает право… Именно рационализму прежде всего мы обязаны нашими первыми знаниями о функциональной значимости правового порядка и государства… И потому не случайно, что именно в деле защиты собственности закон с наибольшей ясностью раскрывает свой характер миротворца»9.
Правовой порядок на Западе сформировался как неотъемлемое условие генезиса другого института - частной собственности, не способного существовать вне «имущественных прав», обеспечивающих его абсолютность.
Иные основания определяли институционализацию социального процесса на территории, принятой сегодня именовать постсоветским пространством. Наряду с избыточной центральной властью, замещающей правовой порядок, важнейшим институтом, исключающим всякую конкуренцию, у народов, объединенных в досоветский период в составе Российской империи, была патриархальная (родовая) или территориально-соседская общины, поддерживающие эгалитарный порядок как средство воспроизводства традиционного социума.
Как показали исследования американского ученого Л.Холмса, община оставалась доминирующим институтом общественного устройства даже после прихода к власти большевиков, больше того, «сельская Россия стала одной гигантской общиной»10 после утверждения советской власти.
Институт частной собственности в условиях общинного строя имел перфектное значение. По крайней мере, община, являвшаяся гарантом воспроизводства жизненного цикла даже в экстремальной ситуации, в которой могла оказаться каждая семья мирян, играла значительно более весомую роль, чем незначительная частная собственность самого общинника.
Институт частной собственности, давший толчок установлению правового режима на Западе, в абсолютном виде никогда не существовал и по сей день не сформировался в большинстве постсоветских республик.
Так, например, в Узбекистане даже в сфере владения личным жильем сохраняется государственно-административное регулирование. Правительством регламентируются в том числе статьи смет расходов товариществ - владельцев частного жилья.
Несмотря на более чем 20-летний путь либеральных реформ, институт частной собственности не сформировался в качестве абсолютного и в России.
Подтверждением этому стали события, связанные со сносом торговых павильонов и кафе вблизи станций метро в Москве (2016 г.): более 50% владельцев подлежащих сносу торговых точек подтвердили законность своей собственности решениями судов.
Многие политологи связывают акцию ликвидации торговых палаток не просто с переделом собственности, наведением порядка, а с имплементацией «структурных изменений Российского государства», знаменующей «уход России торгашеской и возвращение России имперской».
«В либерально-прозападной среде, - пишет один из экспертов, - которая интересам народа предпочитает личное обогащение и собственную безответственность, это принято называть наступлением великодержавной тирании на права свободной личности.
Но их недовольство бесплодно: Россия, вернувшись на международную арену, неизбежно должна была начать восстановление своего традиционного содержания, национальной идентичности».
Очевидно, что отсутствие правового порядка и тотальности закона является главным препятствием воспроизводства на постсоветском пространстве либеральной демократии, основанной на абсолютизации интересов личности. Попытки ее укоренения вне правового государства неизбежно привели во всех новых независимых государствах (кроме стран Балтии) к хаосу, граничащему с утратой суверенитета, увеличили потенциал «внешнего управления», воздвигли непреодолимые препятствия поступательному общественному развитию. Криминал стал обыденным явлением повседневной жизни и контролировал целые отрасли общественного хозяйства.
Согласно данным МВД, в России в 2000 году организованная преступность контролировала 40% частных, 60% государственных предприятий и до 85% банковского бизнеса11.
В качестве причин криминализации постсоветского пространства в 90-х годах прошлого столетия Всемирный банк назвал:
- слабость государственного аппарата и институциональный вакуум;
- перераспределение государственного имущества в интересах частных лиц;
- потребность в формировании новых институтов, законов, указов и реформирование государственного политического курса.
Отсутствие правового порядка в бывших союзных республиках признают и представители власти. Так, Д.А.Медведев по этому поводу высказался вполне определенно: «Россия, без преувеличения, это страна правового нигилизма… таким уровнем пренебрежения к праву не может «похвастаться» ни одна другая европейская страна. И это явление, уходящее в нашу седую древность»12.
Разъясняя смысл либеральной демократии, состоящий из двух не всегда совпадающих компонентов: конституционального либерализма («господство права и защита личности», или «совокупность свобод») и демократии («избрание представителей власти посредством всеобщего избирательного права»), Ф.Закария и М.Платтнер указали, что порядок, обеспечивающий права граждан (либерализм), является обязательным условием демократического процесса. «Если демократия не охраняет свободу и закон, - пишет Ф.Закария, - то такая демократия является слабым утешением». По мнению исследователя, «лучшим выражением «западной модели» служит не массовый плебисцит, а беспристрастный суд». Становлению западной демократии предшествовал длительный период становления правового порядка, но не наоборот. «Конституционный либерализм привел к демократии, но демократия, по-видимому, не приводит к конституционному либерализму»13.
Следуя логике упомянутых политологов, в постсоветской политической реальности, где «вертикаль власти» является единственным гарантом правового порядка, его субъектность в демократическом процессе является объективной. С таким положением согласуется другое указание Ф.Закарии относительно оценки социальной сущности постсоветских режимов. «Экономические, гражданские и религиозные свободы, - пишет он, - составляют основу независимости и достоинства человека. Если правительство, ограничившее демократию, постоянно расширяет эти свободы, то его не следует называть диктатурой». Кстати заметить, что по ИРЧП (индексу развития человеческого потенциала), отражающему именно эту сторону социальных показателей, например Россия с 2011 по 2012 год поднялась сразу на 11 позиций.
Статья другого исследователя, Марка Платтнера, содержит еще два важных с точки зрения освещаемой проблемы замечания. Во-первых, М.Платтнер утверждает, что «недемократические формы правления [переходные к демократии] могут быть легитимными, если они существуют с согласия народа [сколько угодно длительный исторический период]», и во-вторых, режимы, обеспечивающие права и свободы граждан, «содержат в себе семена своей собственной демократизации»14.
Сказанное позволяет обоснованно предположить необходимость центрального места в постсоветской режимной трансформации, имплементированной посредством прямой демократии, персонифицированной верховной власти, способной гарантировать права и свободы граждан. При этом такой посыл не является результатом утверждения незыблемости, статичности автократий, но отражает отмеченную Брюсом Макконнеллом их «значительно возросшую динамичность», обусловленную поиском легитимности в «сложном» социуме.
Не нужна специальная аргументация того факта, что подчинение и управление структурированного, гетерогенного общества, каковым оно неизбежно становится вследствие естественной эволюции, требует качественно более совершенных методов, нежели однородного, гомогенного. Кроме того, открывающиеся и ранее недостижимые возможности социализации авторитарной власти, по мнению Б.Макконнелла, обусловлены развитием коммуникаций.
Во-первых, имея в виду, что «в киберпространстве, как и в других областях, власть принадлежит корпорациям и государству»15, власть получает действенный механизм регулирования его масштабов и контента. Во-вторых, контролируемое «киберпространство» становится действенным инструментом реализации политтехнологий, направленных на разворот политических предпочтений «в нужное русло». В-третьих, и это главное, с точки зрения поиска парадигмы трансформации политические режимы эволюционируют в направлении нового качества «прагматично информационно-сетевого централизма; архитекторы которого вполне отдают себе отчет в том, что можно сделать гораздо больше, если народ с вами, а не против вас»16.
Исходя из представления Бертрана де Жувенеля, который утверждал, что независимо от природы и политической идентичности власть всегда самодостаточна и функционально имманентна самосохранению, в связи с коммуникационной революцией таковая приобретает уникальные возможности, обеспечивающие собственную стабильность, а именно: достоверное представление об общественной рефлексии государственной машины и, следовательно, своевременной ее коррекции. По сути, данное предположение корреспондируется с концепциями «мониторинговой демократии» С.П.Перегудова и «превентивной демократии» В.Л.Иноземцева.
Позиция, утверждающая статичность постсоветского авторитаризма, уязвима как с точки зрения когнитивной перспективы поиска стратегии развития, так и с точки зрения практического воплощения в качестве адекватного ориентира политической трансформации.
Во-первых, большинство граждан бывших союзных республик видят в авторитаризме лишь «гарантию демократических прав и свобод против бюрократического и криминального произвола», но не порядок, определяющий естественное состояние социума.
Во-вторых, демократические ценности остаются базовыми, социетальными, ориентирами большинства граждан новых независимых государств.
В связи с определением в качестве субъекта политической модернизации на постсоветском пространстве «одного центра власти» важно заметить, что его эффективность зависит от двух функциональных характеристик: во-первых, «успевать воспринимать и реагировать на ключевую информацию, отражающую события», то есть респонсивности, или чувствительности, «к нуждам членов общества, занимающих нижние ступени социальной иерархии»; во-вторых, «сравнительно эффективно корректировать нарушения, которые допускает его бюрократия». Логично предположить, что эволюция центральной власти в направлении, обеспечивающем указанные функции, не только гарантирует собственную стабильность, но и позволяет привлечь к принятию решений широкие массы, что в конечном итоге приводит к результату, в большей степени, чем западные представительные институты, отвечающему смыслу и ценностям демократического порядка.
Для характеристики отмеченных функций «одного центра власти», например российского, вполне применимы исследования его респонсивности 2010 года. Авторы мониторинга И.Е.Дискин и В.В.Федоров отмечают, что благодаря развитию коммуникаций «представители практически всех социальных групп оценивают уровень информированности властей о проблемах населения как достаточный». «Результаты исследования убедительно показали, что респонсивные способности современного Российского государства довольно высоки. С мнением, что власти прислушиваются к взглядам и запросам населения, согласно относительное большинство опрошенных. Данные опросов населения подтверждают, что действия президента и правительства отражают или в значительной степени отражают интересы большинства населения. Об этом же свидетельствует высокий уровень совпадения проблем, наиболее значимых для малообеспеченных, массовых слоев населения (пенсионеры, бюджетники, рабочие): доходы, цены, занятость и приоритеты действий власти, сосредоточившей в ходе кризиса 2008-2009 годов свои усилия на решении приоритетных для этих групп населения проблем»17.
В контексте сказанного отметим, что и Президент Казахстана Н.А.Назарбаев неоднократно отмечал, что основным ориентиром при принятии важных политических решений является общественное мнение и интересы народа.
Даже если считать признание авторитарными правителями гражданской инициативы и общественного мнения в качестве важного источника формирования политической повестки «демократическим камуфляжем», то сама артикуляция этого положения говорит о том, что власть осознает необходимость укрепления собственной легитимности через учет общественных интересов. С расширением коммуникационных возможностей открываются новые перспективы в диалоге общества и власти, что, во-первых, заставляет последнюю неизбежно предпринимать шаги в направлении демократизации и, во-вторых, восполняет дефицит ее легитимности в ходе движения по пути демократических преобразований.
Итак, переход к информационному обществу сопровождается развитием коммуникаций и новыми возможностями интерактивного взаимодействия общества и власти, последняя обретает субъектность в процессе политической модернизации, открывающей демократическую перспективу развития.
Однако глубина и последовательность демократической эволюции центральной власти, по мнению отечественных и зарубежных исследователей, во многом зависят от успеха формирования еще одного активного элемента режимной трансформации - гражданского общества.
Во-первых, потому что механизмы прямой демократии, олицетворяющие подлинное народовластие, пока несовершенны, а во-вторых, гражданское общество в условиях депривации традиционных политических институтов консолидации общественных политических предпочтений (политических партий) становится единственным связующим механизмом народа и власти, инициирующим демократические преобразования.
Однако, как показала практика, созданные государством неправительственные структуры точно так же, как и инспирированные извне, обладают весьма ограниченным потенциалом влияния на демократический процесс. В этой связи представляется, что демократический транзит способны обеспечить прежде всего структуры гражданской солидарности, нарождающиеся вне государственной инициативы. Бесспорно утверждение, что «в посткоммунистических «обществах транзита» не оформились еще до конца массовые групповые интересы, составляющие базовое основание гражданских отношений. Отсутствие таких четко структурированных массовых интересов, следовательно, и ясно выраженной социальной идентификации каждого индивида, препятствует формированию гражданских объединений и эффективным групповым действиям. Институциональная модернизация государства здесь значительно опередила модернизацию общества»18.
Вместе с тем, несмотря на медленные темпы формирования, гражданское общество становится неотъемлемой частью постсоветской реальности и дезавуирует аргументы тех, кто утверждает, что этот социальный феномен - продукт исключительно западной цивилизации, не имеющий оснований в культурном опыте народов постСССР (термин В.Гельмана).
Например, в России сегмент «неполитического гражданского активизма» составляет 34%, а слой граждан, включенных в политическое участие, охватывает пятую часть населения. Причем следует отметить, что подавляющее большинство (79-81%) «участвующих в деятельности неполитических общественных организаций в той или иной форме включены в политическую жизнь страны»19. Судя по результатам опроса, количественные данные, характеризующие развитие гражданского общества Белоруссии, находятся приблизительно в том же диапазонном масштабе.
В определении основных силовых направляющих консервативной модернизации важны не только и не столько констатация поступательного развития постсоветского гражданского общества, сколько выявление особенностей генезиса и сущностных качеств, вытекающих из его природы.
Как отмечал, например, Фрэнсис Фукуяма, основу гражданской солидарности на Западе составляет индивидуализм, который определяет развитие гражданского общества по направляющей «индивидуальное - общественное». «Если говорить немного упрощенно, - пишет он, - то мы появляемся на свет не как сверхсоциализированные члены общества, а скорее как изолированные индивиды с багажом эгоистичных желаний и предпочтений. Однако во многих случаях мы можем удовлетворить эти предпочтения более эффективно, если будем сотрудничать с другими людьми, и в результате приходим к созданию норм сотрудничества, управляющих взаимодействием членов общества»20.
Из этой основополагающей характеристики следует другая черта западного гражданского общества - наличие в его социетальных скрепах «достаточного поля, где главенствует частная жизнь, легитимная по своему собственному праву и огражденная от необоснованного вмешательства государства»21.
Еще одним важным признаком западного гражданского общества, прямо вытекающим из его сущности, является агрегирование среднего класса.
Иной солидарности в обществе, где абсолютизируются интересы индивида, кроме солидарности «собственников», трудно представить. Формирование среднего класса значительная часть политологов считает необходимым условием постсоветского демократического транзита. Однако практика посткоммунистического общественного развития дает основание сомневаться в этом утверждении.
В марте-апреле 2010 года Институт социологии РАН провел исследование, целью которого должен был быть ответ на вопрос: «Готово ли российское общество к модернизации?» Согласно опубликованным результатам исследования, по мнению россиян, средний класс обладает значительно меньшим потенциалом в модернизации страны, нежели рабочие, крестьяне, интеллигенция и молодежь.
Причина указанного несовпадения основных сущностных характеристик западного и формирующегося на постсоветском пространстве гражданского обществ коренится в ценностных ориентирах его генезиса. В отличие от западного гражданское общество «постСССР» выстраивается в соответствии с традиционно-общинной архитектурой миропорядка: «от общественного к индивидуальному». Гражданскую консолидацию фундируют не индивидуальные, а «соборные» предпочтения. Согласно данным опроса целевых групп (проявляющих гражданскую активность), организованного Институтом стран СНГ в 2013-2014 годах в России, Казахстане и Армении, большая часть участников общественных движений, волонтеров, благотворителей и других руководствуется далеко не индивидуальными интересами, а желанием проявить «гражданскую позицию».
Аккумулирование смыслов, инициирующих гражданскую консолидацию в плоскости общественных интересов, обусловливает, во-первых, непростой путь становления гражданского общества, так как формирование ценностей солидарности сложноструктурированного социума настолько же сложно, насколько сложна выработка национальной идеологии; во-вторых, включенность структур гражданского общества в политический процесс и его активную позицию в диалоге с властью.
Иначе говоря, трудно формируемые институты гражданского общества изначально обретают политическую субъектность и непосредственно влияют на ход и направления модернизации, становясь трансляторами и в известной степени проводниками общественных интересов.
Посредничество институтов гражданского общества между гражданами и государством обеспечивает не только трансляцию неформальных норм на уровень норм официального права, но и их универсализацию, то есть принятие их как справедливых членами общества.
Релевантность моделей демократии, отражающих национальный культурный опыт, отметил еще О.Шпенглер. «Английский инстинкт, - писал он, - привел к решению: власть принадлежит личности. Свободная борьба индивидуальностей, торжество сильного, либерализм, первенство. Не нужно больше государства… Французский инстинкт решает: власть не принадлежит никому. Никакого подчинения и, следовательно, никакого порядка. Не государство, а ничто: равенство всех, идеальный анархизм, на практике (в 1799, 1851, 1871, 1918 гг.) жизнеспособность целого сохраняется только благодаря деспотизму генералов или президентов. И то и другое называется демократией, но в совершенно разном значении этого слова»22.
В отличие от английского и французского, «немецкий, точнее прусский, инстинкт говорит: власть принадлежит целому. Отдельное лицо ему служит. Целое суверенно. Король - только первый слуга своего государства (Фридрих Великий). Каждому отводится предназначенное ему место. Приказывают и повинуются. Все это начиная с XVIII века и есть авторитарный социализм, по своему существу чуждый либерализму и антидемократичный, поскольку речь идет об английском либерализме и французской демократии»23.
Консервативный путь политической модернизации постсоветских режимов отнюдь не находка современного научного и практического поиска. Необходимость учета историко-культурного контекста, выраженного избыточной централизацией власти, при переходе к демократии видел, например, И.Ильин, сам ставший жертвой тоталитарного режима.
Осознавая пагубность для постсоветской трансформации демократических институтов западного образца, И.Ильин пророчески заявлял, что, «прежде чем русский народ будет в состоянии произвести осмысленные и не погибельные политические выборы», «его может повести только национальная патриотическая, отнюдь не тоталитарная, но авторитарная - воспитывающая и возрождающая - диктатура… организующая новую неформальную демократию, а потому демократическая диктатура; не демагогическая, «сулящая» и развращающая, а государственная, упорядочивающая и воспитывающая; не угашающая свободу, а приучающая к подлинной свободе»24.
Идеи И.Ильина не только нашли отклик в отечественном научном сообществе, но и получили развитие во взглядах современных западных политологов. В частности, Ф.Закария так оценивает режим нынешнего Президента России: «Путин выступает в роли настоящего реформатора, но никто не поднимает вопроса в связи с его впечатляющим усилением власти, особенно по отношению к Думе и губернаторам областей, двум другим основным источникам политической власти в России. В действительности, он создал избираемую автократию и теперь проводит либеральную реформу. Идея состоит в следующем: желание иметь демократию позволяет создать суперпрезидента, мягкого автократа, который сможет затем предложить реальную демократию»25.
В то же время признание необходимости использования сильной централизованной власти при переходе к народовластию совсем не означает абсолютизацию авторитаризма и придание последнему характера незыблемой стратегии общественного развития. Суть консервативной модернизации заключается в ориентации на формирование посредством этой особенности политического ландшафта, предполагающего широкое политическое участие. Смысл сказанного хорошо выражен Н.Бердяевым: «Вся русская история и вечный конфликт инстинкта государственного могущества с инстинктом свободолюбия и правдолюбия породили глубокую противоречивость национального характера народа, выражающуюся в том, что он является в одно и то же время «государственно-деспотическим» и «анархически-свободолюбивым»26.
Основаниями верификации консервативной модернизации может служить неубывающее доверие населения постсоветских стран институту президентства. Положительные оценки гражданами деятельности президентов отмечаются с завидным постоянством исследовательскими центрами, в том числе представляющими далеко не дружественные структуры.
Например, удельный вес сторонников «наличия сильного лидера, которому не приходится беспокоиться по поводу парламента и выборов», в Белоруссии с 2000 по 2008 год увеличился с 33,5% до 61,6%. Переизбрание В.В.Путина на новый президентский срок готовы поддержать 70% россиян (в 2012 г. - 40%).
Архитектура политического режима, основанного на прямом диалоге централизованной власти с обществом, в целом совпадает с общецивилизационным трендом постепенного смещения акцента демократической парадигмы от представительной к непосредственной демократии.
Таким образом, перспектива консервативной модернизации постсоветских политических режимов основывается не только на признании структурной обусловленности демократического транзита, вызывающего неприятие у сторонников функционального подхода к оценке его предпосылок, но прежде всего на учете объективных изменений, связанных с развитием коммуникаций, во-первых, значительно повысивших информационный потенциал власти в укреплении собственной стабильности и, во-вторых, генерировавших «техническую» возможность активного внедрения в политический процесс непосредственной демократии, поднимающей на качественно более совершенный уровень политическое участие. Изложение идеи консервативной режимной трансформации имеет право на жизнь и потому, что корреспондируется с уже верифицированной не западной политической практикой.
1Fukuyama F. The End of History // The National Interest. 16 (Summer 1989). P. 18; Н.Назарбаев о развитии демократии в Казахстане: Стакан наполовину полон // URL: http: // Kstnews?node-5468
2Макконнелл Б. Сетевое общество и роль государства. Новые вызовы свободе и безопасности // Россия в глобальной политике. 2016. №2. С. 134.
3Черняховский С.Ф. Самозванцы либерализма. Идеология «золотой рыбки» // Свободная мысль. 2015. №5. С. 79.
4Шувалов Ю.Е., Посадский А.В. Российский консерватизм: ценностные основания и стратегия развития. М.: Аткара, 2010. С. 6.
5Чичерин Б.Н. Различные виды либерализма // Опыт русского либерализма. Антология. М., 2007. С. 49-50.
6Баранов Н.А. Влияние консервативных тенденций на формирование политической системы России // Обозреватель–Observer. 2016. №3. С. 16.
7Зайцева Т.И. В защиту русского либерализма // Полис. 2006. №1. С. 176.
8Честнейшин Н.В. Консерватизм и либерализм: тождество и различие // Полис. 2006. №4. С. 170.
9Мизес Л. фон. Социализм. Экономический и социалистический анализ. М.: Catallaxy, 1994. С. 33, 34.
10Холмс Л. Социальная история России. 1917-1941 гг. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского университета, 1994. С. 53.
11Захаров А.В. Коррупция в условиях системной трансформации на постсоветском пространстве // Проблемы современной экономики. 2006. №3/4. С. 51.
12http://medvedev2008.ru/performance_2008_01_22.html
13Закария Ф. Возникновение нелиберальных демократий // Логос. 2004. №2 (42). С. 68.
14Платтнер М. От либерализма к либеральной демократии // Апология. 2005. №1. С. 3.
15Макконнелл Б. Указ. соч. С. 136.
16Там же. С. 134.
17Дискин И.Е., Федоров В.В. Респонсивность современной российской политической системы // Мониторинг общественного мнения. 2010. №6. С. 7, 8.
18Линецкий А.В. Институты гражданского общества в общественных трансформациях. Теория и практика посткоммунистических стран // Политэкс. 2007. Т. 3. №4. С. 124.
19Петухов В.В., Бараш Р.Э., Седова Н.Н., Петухов Р.В. Гражданский активизм в России: мотивация, ценности и формы участия // Власть. 2014. №9. С. 14.
20Фукуяма Ф. Великий разрыв. М., 2008. С. 207.
21Линецкий А.В. Указ. соч. С. 123.
22Шпенглер О. Пруссачество и социализм. М., 2002. С. 27.
23Там же. С. 26.
24Ильин И. О грядущей России. Избранные статьи. М., 1993. С. 187.
25Закария Ф. Неизбежная демократия пять лет спустя: судьба демократии в двадцать первом веке // Логос. 2004. №2. С. 77.
26Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 15.